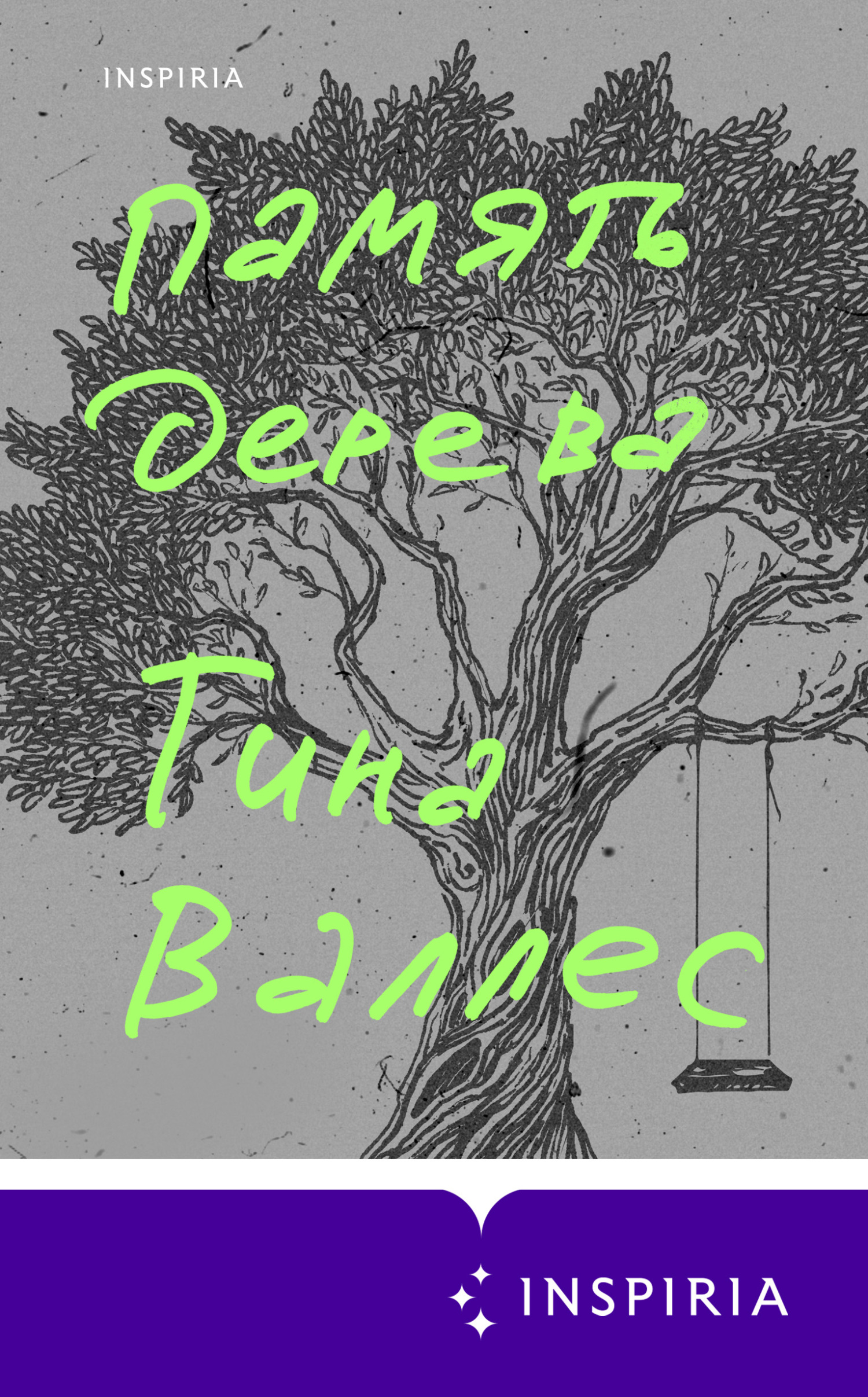ветка пробилась в спальню. На его постели, поверх одеяла, осталось пять мертвых желтых листьев.
На следующий день жар у дедушки спал, а разбитое окно заколотили доской, прибитой четырьмя гвоздями: вот потому-то он и не увидел, как двое рабочих, вооруженных пилой, расправились с излечившей его зеленой ласковой рукой половинки вербы.
Дедушка объяснил мне, что если дерево срубили, в его память может заглянуть любой.
Пенек от его вербы простоял в центре площади до тех пор, пока дедушка не окреп и не вышел на улицу посидеть на солнышке и набраться сил.
Ветка с зелеными пальцами спасла ему жизнь, он перестал температурить и пошел на поправку сразу же, как только к ней прикоснулся. А теперь в центре площади его ждал пенек. Дедушка потихоньку подошел к нему. Ему казалось, что раскидистая крона по-прежнему отбрасывает тень, он слышал шум ветвей, клонящихся друг к другу. Но все было залито солнцем, там было одно только солнце и деревянная тишина.
Он стоял у пенька, не слишком широкого в обхвате – оба они были худосочные, и дедушка, и верба, – до тех пор, пока его снова не выручил ветер, подтолкнувший, подувший в подколенные ямки, прошептавший на ухо «садись».
По дедушкиным словам, сесть на пенек – это все равно что проникнуть внутрь дерева и увидеть все то, что оно повидало на своем веку, остановить время и глядеть внутрь, в глубь древесины и внутрь себя. Пенек вербы был для одиннадцатилетнего мальчика размером с табуретку, и все, что это дерево повидало на своем веку, не выходило за пределы этого крошечного пространства, но для дедушки это мгновение стало одним из тех, которые он и сейчас, шестьдесят лет спустя, переживает так, как будто они длятся до сих пор.
– Завтра его уберут.
– Но разве нельзя его не выкорчевывать, папа?
– Если его оставить как есть, таким ты его и запомнишь.
Дедушка поднялся, погладил обеими руками то, что оставалось от молодого срубленного дерева, и силой воображения воскресил его таким, каким оно было раньше, нетронутым, густолистым, танцующим при каждом дуновении ветра, залетевшего в тот уголок Вилаверда, и осыпающим землю желтыми листьями, длинными, словно пальцы.
Дедушка дорого бы дал за то, чтобы его окно было все так же заколочено доской, чтобы не видеть, как отец и еще двое мужчин из поселка, пришедших ему подсобить, с корнем вырывают пенек его вербы и вместе с оголенными от листьев ветками сваливают его в поленницу, в уголке возле дома.
– Будут на зиму дрова.
По словам дедушки, в ту зиму холода не наступали долго-долго, а дым от поленьев был какой-то необычный, стойкий, и матери, решившей, что с печью творится что-то неладное, пришлось раскрыть все окна, чтобы вытравить его из дома. Дедушка опрометью помчался на террасу на крыше, и на несколько мгновений печная труба превратилась в ствол дерева, скрывший другой, исчезающий ствол.
Углубление, оставшееся на месте пня, круглое, как буква О, сразу же засыпали землей, и через несколько дней гладкая цементная поверхность покрыла маленькую площадь светло-серым цветом ускользающего дыма.
Сидя на каменной скамье, стоящей на цементном покрытии, дедушка каждый день изо всех сил вспоминал вербу. В первые дни он не в силах был забыть пенек и поленницу возле дома. Потом перед глазами его вставало покосившееся дерево, расколотая надвое верхушка, раненный молнией ствол. Но уже через несколько дней к нему вернулись лучшие воспоминания о вербе, стройной, зеленой, покрытой листвой, шелестящей в медленном танце ветвей.
– Может быть, если ты ее нарисуешь…
Отец купил ему коробку цветных мелков. Когда к обеду дедушка, который тогда был мальчиком одиннадцати лет, сел за стол, все его пальцы были перепачканы зеленым.
Когда Мойсес и его мама захлопали в ладоши, я густо покраснел.
– Ух, какую ты, Жан, сказку сочинил!
– Никакая это не сказка. Так оно и было.
– Не обижайся. Мойсес хотел сказать, что нам очень понравилось, как ты рассказывал.
Я не стал им говорить, что это были дедушкины слова, и теперь я их хранитель.
После обеда Мойсес выбрал фильм про насекомых, чтобы скоротать время перед тем, как пойти в бассейн. А я еще не пришел в себя от того, что дождь перестал лить в тот самый момент, когда я закончил свой рассказ про вербу, и меня ослепил лучик солнца, когда Мойсес и его мама захлопали в ладоши.
На экране божья коровка показывала дорогу муравьям, которые шли по лесной тропинке и несли кусочки сахара.
Побыть ребенком, как хотела мама, у меня не вышло.
Дедушка – дерево, думал я. Теперь он – верба, раненная молнией. И когда от него не останется ни следа, я сяду его рисовать и измажу все пальцы зеленым мелом.
Если бы про меня написали повесть, на следующий день после смерти дедушки мама, а может быть, бабушка, вручила бы мне трогательное прощальное письмо с кучей полезных советов, в котором герой этой книжки нашел бы слова, которые бесконечно повторял бы в час любых сомнений себе самому, своим детям и внукам и, наверное, когда-нибудь сам завещал бы их потомкам в предсмертном письме.
Но в мире, где мы живем, нет места прощальным письмам и умилительным строчкам. Дедушка жив. Все еще жив.
Письма не будет, потому что мы помаленьку расстаемся уже давным-давно.
Мойсес тут же уснул, мы почти не перешептывались. В бассейне мне в конце концов удалось побыть ребенком, все мысли унесла вода. Но как только я лег в кровать, все снова встало на свои места, и тут мне захотелось навсегда обо всем забыть. Даже не знаю, как мне удалось задремать.
Внезапно я проснулся у себя дома и услышал, что кто-то меня зовет. Я встал с постели, вышел на балкон и увидел, что в дупле в стволе платана на бульваре Ронда что-то светится. Я спустился по лестнице, босиком и в пижаме. Голос доносился из дупла. На улице не было ни души.
В дупле платана сидел дедушка, ума не приложу, как он умудрился туда залезть. А светились часы, которые он удерживал двумя руками, как прожектор.
– Это ты, Жан?
– Дедушка, что ты тут делаешь?
– Это ты? – Сияние тикающего прожектора меня ослепило. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, и я чуть не оглох от громового тиканья.
– Да,