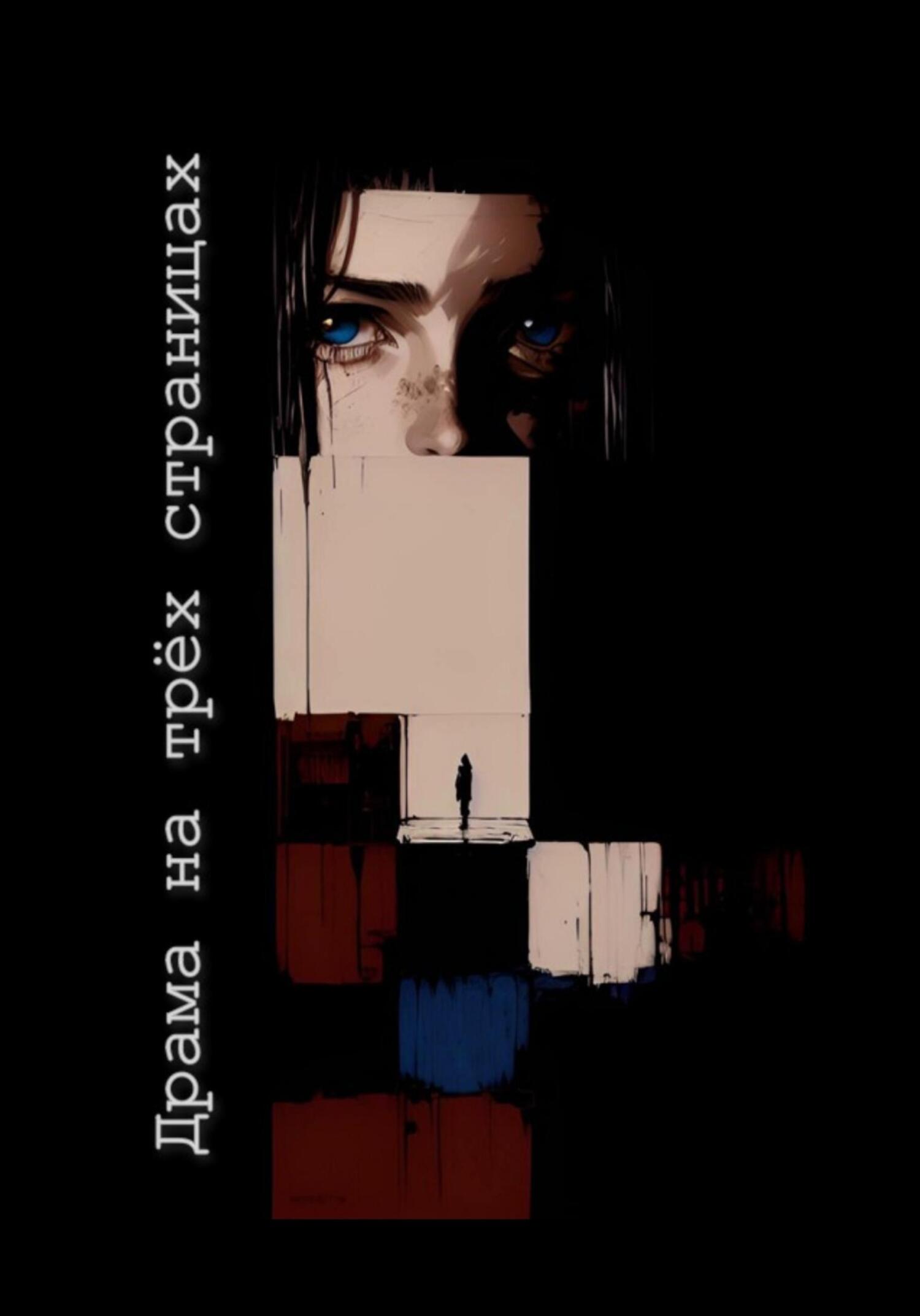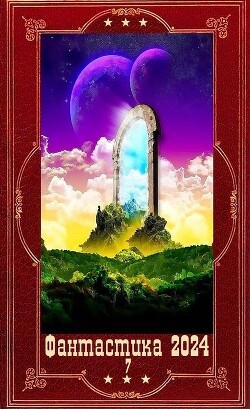что-то. Хотя все равно долго ещё. Ты мне знаешь? Ты напомни мне, когда они фамильный сервиз дербанить начнут. Не забудь.
Около восьми заходит дочь с докладом.
— Достали с полки коробку с чайным сервизом и разложили всё на столе.
— Ну наконец-то, — удовлетворенно тру руки я. — Кажется дело близится к кульминации. А значит, не за горами и развязка. Впрочем, я должен сам на все посмотреть, своими глазами убедиться.
Не доходя до гостиной, я для начала встаю у лестничного пролета так, чтобы меня не было видно, а мне, наоборот открывалось буквально все. Потом, приоткрыв на полпальца дверь, начинаю осторожно наблюдать, как мои несчастные родители перебирают за столом чашки с блюдцами, чайники, розеточки и тому подобную чепухистику.
Скоро до меня доносится полный возмущения голос матери.
— И ты требуешь, чтобы я вот так взяла этот сервиз и вручила тебе за здорово живешь?
— А то как же, — бескомпромиссно гудит отец и подвигает коробку поближе к себе.
— Интересно, и с чего бы это я должна?
— С того, что я главное право на него имею, он на мою зарплату был куплен. Как сейчас помню, первую получку всю отнес за него без малости. Это в тот год еще, когда мы с тобой в гарнизоне жили, под Читой. Помнишь? Сразу же после училища. Хотел таким образом тебе уют создать, заразе, чтобы ты дискомфорта вдали от цивилизации не ощущала. Мне тогда еще офицеры вокруг завидовали. Жена, говорили, у тебя настоящая декабристка. Совсем еще девчонка, а надо же, такая преданность. Подвижница. И впрямь. Никто почти из жен тамошнего комсостава в ту глухомань носу не сунул. А ты сорвалась. Завидовали все.
— Дура была потому что.
— Вот так, значит!
На лице у отца отражаются разочарование и обида.
— А я, к твоему сведению, не дурак. Поэтому как хочешь, а сервиз мой!
Отец придвигает коробку почти совсем уже к своему краю стола.
— Да ну-у… Типа… чтобы я тебе, ироду, вот эту чашечку отдала?
Мать с умилением гладит извлеченный из коробки фарфор, на котором присутствует чеканная позолотой надпись — «1980».
— Ишь чего удумал. Эту гравировку мы сделали, когда Алешенька родился. Я очень рожала еще тяжело. Помнишь? А ты всю ночь во дворе под дождем так и простоял столбом. Вовнутрь ведь не пускали. Карантин. Утром я, улучив момент, подковыляла к окну с Алешкой, а ты там, дурачок, стоишь прикрывшись газетой, и дрожишь, втянув голову в плечи. Мо-окрый.
— А то как же? Должен ведь был я убедиться, что пацан на меня похож, а не на замкомбата по тылу, — смущенно оправдывается отец.
— Вот эта вещь не из начального сервиза. — Мать, достав из коробки ещё одну чашку, вдруг начинает хмуриться. Высокий её лоб, обрамленный едва начинающими седеть прядями, прошивает дополнительная глубокая морщина.
— Мы её после докупили. Похожа, конечно, на настоящую, но если приглядеться, то не совсем. Ту же, оригинальную, я, тетеря, разбила в девяносто пятом еще. Из рук выскользнула, когда позвонили и сказали, что тебя в Гудермесе под обстрелом накрыло.
— Было дело, — кряхтит отец, потирая плечо. — Я аж на койке от неожиданности подпрыгнул, когда ты на следующий день в Моздоке в палату ко мне, словно фурия, влетела. Режимный объект, и как ведь пустили только…
— А я и не спрашивала…
— Да уж, в этом ты вся. Никто тебе не указ.
Тут взгляд отца теплеет.
— А вот из той емкости ты меня отпаивала потом отварами: ромашка, чабрец. Помнишь? — Он бережно достает из коробки фарфоровый чайник с облезлым носиком. — От пневмонии лечила. У меня тогда, после пробитого легкого, пневмонии пошли одна ж за одной. А ты травы сама собирала, сушила. В аптечных, говорила, польза не та. Веник, говорила, он и есть веник. Кстати, а что это тут за мусор в сахарнице лежит, давно хочу тебя спросить? — интересуется он, открыв крышку с очередного предмета столового гарнитура. — Трава какая-то.
Отец с опаской нюхает содержимое.
— Махра, что ли? Вроде не похоже. У той запах ядрёный.
— Убери свои лапищи. — Сделав строгое лицо, мать выхватывает предмет посуды из отцовских рук. — Роза это. Лепестки. Помнишь, на хрустальную свадьбу ты нам всю спальню розовыми лепестками выстлал? Это, значит, они. Я тогда подумала, не выкидывать же. Вот и сохранила себе чуток. А то когда ещё от тебя, солдафона, дождешься. Мне эта сахарница как родня с тех пор.
На какое-то время в воздухе устанавливается молчание. Слышно только биение мухи об окно и шуршание мыши под холодильником.
— Ну и как… как, отец, скажи, мы с тобой разводиться-то будем, раз сервиз у нас один на двоих, да еще неделимый такой? — не выдерживает паузы мать. — Если он дороже души нам обоим?
— Да уж, — тянется за папиросами отец. — Ничего не скажешь. Задачка.
— Ну что ж, пусть тогда все остается, как есть, — обречённо машет рукой родительница и смахивает украдкой что-то с краешка глаза. — Делать нечего. Перестаём разводиться.
— Куда деваться. Придется и дальше жить мне с тобой, с извергиней. — Отец с облегчением кивает и, понюхав папиросу, засовывает её обратно в пачку. — Теперь по крайней мере я хоть уже понимаю ради чего страдать приходится.
— Это верно. Что не сделаешь ради такой ценной вещи. Жизнь положишь за неё. Даже с таким охламоном-вредителем, как ты.
«Бинго! — едва удерживаюсь я, чтобы не захлопать в ладоши.
— Свершилось!»
Стараясь не дышать, я прикрываю дверь, после чего, осторожно ступая, пячусь в сторону кухни.
«Ну вот почему, почему им было сразу с сервиза не начать? — пожимаю плечами я. — Столько времени потеряли зря. Эх, да ладно. Главное, что нам с дочурой надо теперь, на всякий случай, держаться поближе к пищеблоку, ибо, по всей видимости, в этом доме скоро подадут ужин».
Уже через пять минут мы вчетвером дружно и весело перекусываем медовыми ватрушками, осторожно запивая их из чашек невероятно ценного сервиза, из-за которого мои родители вот уж лет двадцать как не могут развестись…