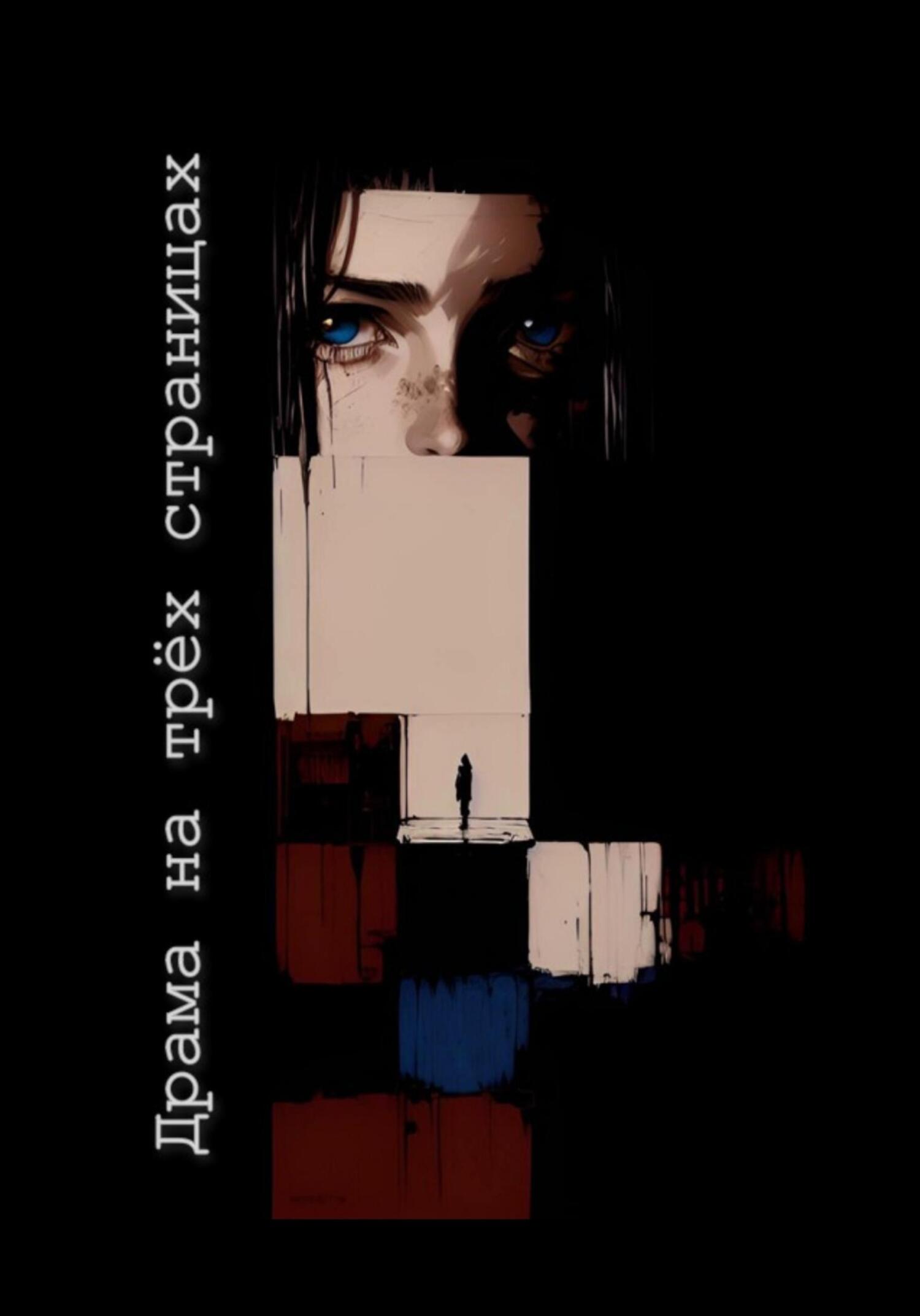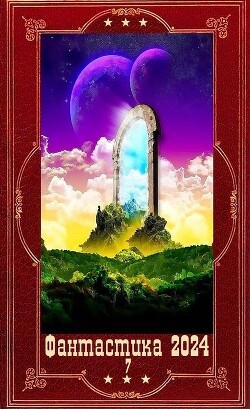Велосипед падает — лечу за ним, но крепкие руки удерживают и не дают упасть, стесать в кровь искусанные комарами колени, вымазаться в чёрном и липком.
— Не… — мотаю головой, зло отталкиваю руки, ненавистную клетку, весь ненавистный мир. — Не получается! Хватит!
— Получится, — щурится дедушка.
Он моложе лет на двадцать — чёрт, а я и не думала, что ещё помню его таким. Здесь ему шестьдесят, не больше.
— Где такое видано: в тринадцать лет не уметь на велосипеде? Чего ты там весь год делала у родителей? Ничему тебя не учат!
Его любимая рубашка в сине-белую клетку потемнела на спине и груди, прилипает к телу — но дедушка как будто этого не замечает и снова поднимает велосипед.
— Да не могу я!
— Ничего, ещё как сможешь!
Улыбается — было бы, чему! — и ставит велосипед вертикально:
— Сейчас один раз научишься — потом никогда не забудешь!
Смотрю исподлобья на орудие моих пыток. Сжимаю зубы и выкладываю свой последний козырь:
— Велик даже не наш. Ещё раз упаду — и точно сломаю!
— Починим! — ухмыляется дед. — Зато научишься.
Хозяин велосипеда — какой-то давний дедов друг — смотрит на нас из открытого гаража. Возится с чем-то своим. Между гаражами — дорожка метров в триста, и тени на ней медленно ползут и удлиняются.
Третий час я пытаюсь удержать равновесие на велике. Проехать хоть метр сама. Дед сажает меня на сиденье, подталкивает, ловит… Километры наматываются гарью на старые покрышки. Велосипед балансирует между пенсионером и ершистым подростком, но никак не может поймать равновесие.
В одну из попыток, сквозь злые слёзы, просто пытаюсь вырваться из замкнутого круга. Отпускаю синее с белым, давлю на педали — и чувствую, как мир находит точку баланса. Кручу ногами быстро-быстро, и — лечу! Пусть всего метров пять, прежде чем снова упасть в синее с белым.
Но это настоящий полёт! И ветер в лицо. И на щеках — горячая солёная вода…
…горячая вода переливается через край. Спешно закручиваю кран. И тут же в голове вспышками — его любимая рубашка, через годы и события.
Синее с белым: дед дарит мне мой первый телефон. Такое счастье!
Синее с белым: тащит тяжеленные сумки до электрички.
Синее с белым: приехал за мной прямо к остановке. Здесь идти — минут десять, но он не хочет, чтобы внучка вымокла под ливнем. А я только сейчас понимаю, что дойти до гаража, выгнать машину и отогнать обратно — это вымокнуть трижды.
Синее с белым теперь — серая ветошь в моей руке.
Ключ в замке поворачивается так, что эхо отражается в подъезде.
— Ты это… — Он стягивает маску и с порога показывает упаковку с разноцветными прямоугольниками. — Я в них не понимаю… Такие, нет?
Николай Пещеров. УВЯДАНИЕ
В небольшую, скупую на интерьер комнату, падал призрачный свет луны. Голубой луч кое-как пробился через доски на криво заколоченном окне. На это нагромождение досок смотрел старик. Он стоял у окна, пытаясь разглядеть внешний мир. Всё тщетно, лишь голубое свечение. Казалось, старик и вовсе впал в ступор.
Кроме робкого луча луны в комнате, прямо над креслом, по центру, висела лампочка, которая также испускала блёклое свечение. Все здесь было мрачным, особенно бледные голубые обои, наводившие тоску.
Старик дернулся и ожил. Медленно он отвернулся от окна и побрел по комнате, к своему креслу. Прогуливаясь вдоль стен, он вновь наткнулся на старые фотографии в рамках. Эти снимки, эти кусочки прошлого вызывали в душе старика теплые чувства. Вызывали когда-то… Как только старик всмотрелся в лица своих родных, он понял, что их нет. Абсолютная пустота — ни глаз, ни рта, ни носов. Он не мог даже вспомнить, кто изображен на этих фотографиях, а ведь эти люди были ему очень дороги, но он совершенно их забыл.
С камнем на душе старик наконец поплелся в сторону кресла.
Он плюхнулся на пожелтевшую подушку и закрыл лицо руками. Ему больше не хотелось видеть все это.
Тоска съедала его, на пару с каким-то странным щемящим чувством. Чувством, которое пыталось кричать. Кричать, чтобы донести что-то важное до старика, но никаких успехов это не приносило — лишь утробное жужжание. На сердце становилось болезненно гадко.
Две теплые руки коснулись плеч старика. Когда он открыл глаза, перед ним стояла его любимая жена, наряженная в розовое платье. Она выглядела помолодевшей и все такой же доброй и любящей. Старик молниеносно вскочил на ноги и обнял женщину. Они долго-долго обнимали друг друга и закончили, когда граммофон, стоявший на тумбочке у шкафа, разразился знакомым вальсом.
Да, эта мелодия значила для пары очень много — это была мелодия их любви.
Старик, воспрянув духом, закружил свою любовь в изящном танце. Его душа снова светилась радостью. Все было таким реальным, таким естественным. Наворачивая круги танца вокруг кресла, пара не замечала ничего на свете.
Граммофон без передышки выпускал в мир нежные ноты. О, они были настолько нежны, что, плавно разлетаясь по комнате, врезались в стены и аккуратно проникали под обои, расползаясь по стенам. Они несли тепло и влагу. От этой влаги, охватывающей комнату, становилось неуютно.
Обои вымокли, по ним расползались пятна от воды. Голубой цвет желтел. Все становилось желтым, как на старых фотографиях. Пара продолжала кружится, не замечая ничего вокруг. Может это и к лучшему? Скользкие, мокрые ноты врезались во все подряд и угодили прямо в фотографии. Те мгновенно пропитались влагой и грязной слизью выползая из рамок, потекли вниз по стене.
Постепенно ноты искажались, превращая гладкую мелодию вальса в колючее дребезжащие нечто, но старик и его жена пока ничего не замечали. Они смотрели друг на друга, не отрывая сомкнувшихся взглядов.
Обои, окончательно пожелтев, упали со стен, обнажив серый бетон, покрывшийся трещинами. Ломанные грубые линии разошлись по всем стенам. Как эта комната ещё не развалилась на куски? Ноты уже проникли и в эти щели, помогая им разрастаться. Словно семена, они оседали в