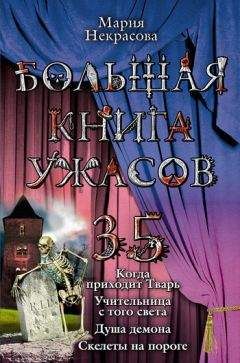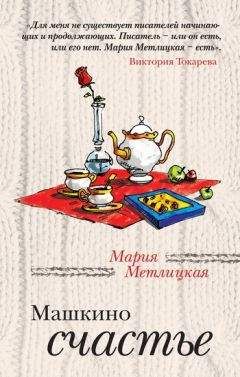сыр и сырковую массу! Как проглатывал куски колбасы, хватал и ломал хлеб, и снова просил чаю.
Маруся подрезала сыр и колбасу, подливала чай, стараясь скрыть чувства и спрятать взгляд. И еще она очень старалась не плакать.
Наконец он наелся и рухнул на спину, на свалявшуюся кривую подушку со старой, ветхой, грязной наволочкой.
– Давайте я поменяю белье, – пряча глаза, сказала Маруся.
– Бросьте! Смысл? Пойти в душ сил нет, да и самого душа нет. Вернее, есть, но не работает. Поправлюсь и доползу до бани, здесь недалеко. Спасибо вам, Мария. Большое спасибо. Но мне так неловко! – Он отвернулся к стене. – Беспомощность – страшное дело, – не оборачиваясь, глухо сказал он. – Знаете, – он помолчал, раздумывая, стоит ли продолжать, и все же продолжил: – Ничего нет хуже беспомощности. Валяешься, простите, как кусок дерьма… И думаешь об одном – зачем? Зачем все это? Вся эта имитация жизни.
Он замолчал. Молчала и растерянная Маруся.
– Сына видеть мне не дают. У него, видите ли, новый папа! Зачем травмировать ребенка? Комната эта… Ну вы и сами все видите, крысиная нора. И по соседству крысы. Работа – да, это как-то поддерживает. В выходные совсем тоска. Магазин, книги, все. У меня даже нет телевизора. Да и зачем мне телевизор… Знаете, Мария, – он даже как будто оживился, – раньше я жил почти в центре, рядом с Фрунзенской набережной. До работы пешком – счастье. Шел себе по хорошо освещенной улице, глазел на знакомые с детства дома, разглядывал прохожих. Все было интересно, потому что это была жизнь. А сейчас одна мысль – добраться бы до дома, доползти до своей норы. Метро, автобус, час пик. Думаешь об одном – не упасть. Народ у нас, знаете ли… Подумают – пьяный и пройдут мимо. Нет, есть и хорошие люди. Есть, безусловно. Но попадется ли этот хороший и сердобольный человек именно мне? А то так и замерзнешь в осенней луже… Ввалишься к себе, в этот крысятник, рухнешь на кровать и улыбнешься – вот оно, счастье! Добрался! Вот так, Мария, вот так. – Он приподнялся на локте и посмотрел на Марусю: – Идите домой, прошу вас! Идите! Это перебор для вашей нежной души. И повторю – забудьте! Прекратите жалеть инвалида! Влюбитесь наконец и выбросьте меня из головы! Вы замечательная, прекрасная девушка! Но, Мария, все это… – он пощелкал пальцами, – как-то не стыкуется. Ей-богу, не стыкуется. Вы и я. Ну не смешно?
– А ваши родители? – спросила она. – Братья, сестры, родня? Неужели никого нет?
– Родители умерли, братьев и сестер нет, есть какая-то тетка в Вышнем Волочке, у нее дочь. Вроде есть двоюродный брат где-то в Туле. И что? Вы думаете, я могу позволить себе свалиться им на голову? Ничего себе подарочек, а? Да я их толком и не знаю, не переписываюсь, не перезваниваюсь. Да и при чем тут они! Все, идите! Умоляю вас, идите домой!
Маруся вышла на улицу и разревелась. Ревела так громко, так сильно, что редкие прохожие испуганно оглядывались. Но никто не подошел и не спросил, что с ней, не предложил помощь. Все правильно он говорил – никто не протянет руку. У всех своя жизнь, у всех куча проблем.
Сев в подошедший автобус, Маруся прижалась лбом к холодному мокрому стеклу. Неужели нет выхода? Неужели все так и будет? Господи, какое несчастье, какая беда. Но нет, так нельзя. Наверняка есть выход, наверняка она что-то придумает! На дворе двадцатый век, люди пережили войну и разруху и ничего, выбрались! В конце концов, есть специальные учреждения для таких, как он, дома инвалидов или больницы, надо узнать, спросить у знакомых! В конце концов, можно найти его родных, а вдруг они хорошие люди? Есть деканат и общественность, есть сердобольные женщины. Они что-то придумают. А если нет?
Если нет, она, Маруся Ниточкина, выйдет за него замуж и заберет его в Мансуровский. Вот так. Решено. И ей наплевать, что подумает Ася и скажет папа. И совсем наплевать на то, что устроит сестрица.
В Чертаново Маруся поехала через день. В большой хозяйственной сумке стояла банка сваренного Асей бульона, десяток котлет, банка малинового варенья, банка меда, но самое главное – Асины пироги: небольшой с мясом и побольше с курагой, Марусин любимый.
На папин вопрос, для кого – Ася вопросов не задавала, – Маруся, покраснев, преспокойненько соврала, что это для заболевшей подруги. Покраснела и Ася, хотя Маруся ей ничего не сказала. Догадалась? Да нет, вряд ли, откуда?
На самом дне сумки лежало украденное из шкафа постельное белье – кто же поверит, что у заболевшей подруги нет смены белья?
Дверь открыл прыщавый подросток лет тринадцати – Маруся поняла, что это сын той самой соседки.
– К Гришке, что ли? – хмыкнул он, проведя рукой по немытым жирным волосам. – Полюбовница?
– Не твое дело! – неожиданно для себя решительно ответила Маруся и прошла мимо.
Р. читал. Увидев Марусю, скривился в болезненной гримасе:
– Ну я же просил! Зачем вы?
Однако Маруся продолжала действовать уверенно – и откуда взялась такая прыть? Сама удивлялась.
Она деловито вытащила из сумки банки и свертки и опустилась на стул.
– Вот. Здесь столько вкусного! Уверена, вам понравится! Моя мачеха печет потрясающие пироги. Еще здесь бульон и котлеты. Но я предлагаю начать с пирогов! Я на кухню, поставлю чайник! – И, не дожидаясь ответа, подхватив чайник, Маруся вышла из комнаты.
Да уж, несвойственной ей решительности в тот день было не занимать. Доцент безнадежно махнул рукой – дескать, делайте что хотите!
На кухне торчал противный подросток. Увидев Марусю, заржал и показал неприличный жест.
– Дебил, – коротко бросила она. Странно, но ей, трусихе, совсем не было страшно. Кажется, Юлькина школа наконец стала давать если не плоды, то точно ростки.
После чая с пирогами Маруся, осмелев, спросила:
– Можно я перестелю постель?
– Прекратите! – крикнул он и, успокоившись, добавил: – Спасибо, конечно, но… Я прошу вас уйти! И обижайтесь сколько угодно! Заканчивайте с вашей благотворительностью! Неужели вам непонятно, что ваша жалость меня унижает? Оставьте меня, наконец, в покое! – Он отвернулся к стене и заплакал.
Она подошла к кровати – всего-то три шага, – села на край и осторожно, почти не касаясь, провела рукой по его волосам. Он дернулся, развернулся, схватил ее руку и прижал к мокрому от слез лицу.
Ничего у них не получилось. Ничего. Ничего, кроме неловкой детской возни, пыхтения, смущения. Ничего, кроме его оглушительного провала и последующих еле сдерживаемых рыданий. И еще настойчивых просьб – нет, требований – уйти. Уйти навсегда, оставить его в