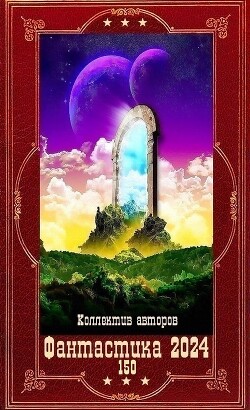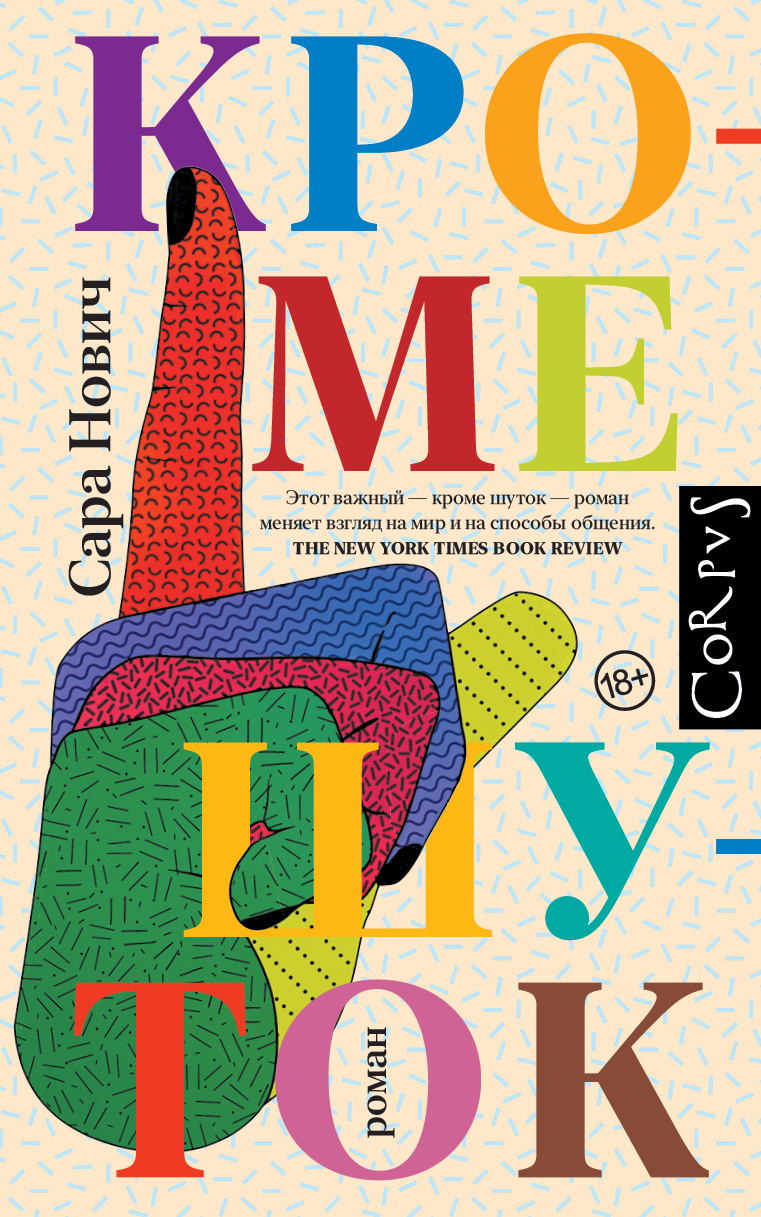Я проводила ее взглядом до такси, но Шэрон что-то печатала в смартфоне и на меня уже не смотрела.
По пути к метро на душе у меня помрачнело, я как будто разозлилась, но не могла уловить, на что именно. А может, расстроилась, что до сих пор мало чего понимаю. Вместо ясности и проницательности взросление привносило лишь большую путаницу. На первом же углу я выкинула карточки в мусорку.
В городе было многолюдно, промозгло и мрачно, стояла атмосфера серости и безысходности, иногда наступавшая в марте. Обед затянулся, и я уже опаздывала на встречу с профессором Ариэлем. Я прикинула, хватит ли мне времени сбегать в общежитие за книгой, которую он мне одолжил, но отказалась от этой идеи и пошла прямиком в кабинет.
Только за чтением я позволяла себе думать о покинутых мной материке и стране. И хотя профессору я ничего о себе не рассказывала, он будто знал, что в этом мире мне неуютно, и поэтому одалживал мне книги – Кундеру, Конрада, Леви и целый сонм других невольных переселенцев. Закончив книгу, я опять шла в кабинет, и тут он уже распинался об авторах, вдаваясь в такие подробности, что я была уверена: они ему все близкие друзья. Я только что дочитала «Эмигрантов» и, хотя всю неделю нервничала в большей степени на тему ООН, эта книга далась мне не легче. Я наблюдала за скитаниями главного героя – отчаявшегося, но в то же время капризного, – и меня не покидало тревожное чувство, что профессор знает меня лучше, чем хотелось бы.
Я взбежала по лестнице и постучалась в полуоткрытую дверь его кабинета. Небольшая комнатка с теплым освещением была буквально доверху заставлена полками. Пол наводняли стопки не пристроенных книг. В центре за столом сидел профессор Ариэль – на фоне собственной коллекции он выглядел совсем щуплым и хрупким.
– Входи. Садись, – сказал он дребезжащим старческим голосом. – Ну как тебе Зебальд?
Я переложила бумаги со стула на письменный стол. За спиной у профессора с громадной фотографии, будто наш дозорный ангел-курильщик, смотрела Вислава Шимборская, чьи стихи он тоже вынудил меня прочесть.
– Задел за живое, – ответила я.
– Удивительная проза, верно?
– Да.
И это была чистая правда, но дело не в этом.
– Но тут не только проза. А еще персонажи. Лицом к лицу столкнуться с людьми, которые так и не оправились от горя, это…
– Обескураживает?
Я кивнула.
– И тем не менее Зебальд неоднократно отмечает, что память несовершенна. Что несколько не вяжется с нашим понятием «выжженной» в памяти травмы. Той самой неотвязной ясности сознания. Что ты об этом думаешь?
Это напугало меня больше всего. А вдруг я переврала в памяти последние минуты жизни родителей? Мне всегда казалось, что я сберегла их у себя внутри в целости и сохранности. Но что, если по какой-то прихоти подсознания то немногое, что мне от них осталось, на самом деле исказилось? Это уж слишком.
– Но, может, так не у всех. Может, кто-то все-таки помнит.
– Разумеется. Но это тоже по-своему тяжко, не думаешь? Вспомни персонажа по имени Амброс Адельуорт.
– Дядю героя?
– Которого терзали столь яркие картины прошлого…
– Что он прибегнул к электрошоковой терапии. Чтобы выжечь все эти мысли.
– Именно.
– Так что мне – то есть что нам тогда остается?
– А черт его знает… – Он слабо улыбнулся и отвернулся к окну.
Он завел речь о том, что недавно Зебальд скончался, о той сомнительной автомобильной аварии, но я в смятении не смогла поддержать разговор.
– Ана, ты в порядке? Выглядишь немного болезненно.
Он произнес мое имя на хорватский манер, а не с протяжной «а», похожей на «э», свойственной американцам.
– Все хорошо. Извините, – ответила я. – Просто нездоровится немного.
– Есть у Зебальда такое влияние. Я называю это «заклятьем безысходности».
Я хотела было отмахнуться, чтобы он не думал, будто я не справляюсь с заданием, но профессор, обернувшись, пристально взглянул на меня, и я затихла.
– Откуда ты, еще раз, родом?
– Я… ну. Изначально?
Я никому не говорила. И говорить не хотела. Но как-то само получилось.
– Из Хорватии. Загреб.
Стоило сказать ему правду, как меня накрыло странное чувство, похожее на невесомость. Я вцепилась в подлокотник, будто меня всерьез могло унести ветром.
Профессор Ариэль, похоже, ничуть не удивился.
– Хм-м, – промычал он. – Я так и понял.
– Что?
– Были у меня догадки. Не то чтобы именно про Хорватию. Просто что ты не отсюда. Хотя с Балканами все логично.
– Как вы догадались?
– Вижу по твоей уставшей душе. Мне ли не знать – сам такой. А еще ты слишком много читаешь.
Он подмигнул, и я позволила себе робкую улыбку в ответ.
– Хорошие новости в том, что друзья тебя скоро нагонят. – Он снова развернулся в кресле к полке в углу. – Так, вот тебе задание на неделю. Осилишь еще одну книгу Зебальда? Есть тут у меня одна из последних. – Он медленно встал и костлявым пальцем подцепил книгу с полки. – Вот она.
«Аустерлиц».
– Простите, прошлую я так и не вернула. Пришла к вам прямо… с деловой встречи.
– Ничего страшного. А вообще оставь ее себе. Уверен, у меня найдется еще один экземпляр.
Он обошел стол кругом и положил книгу мне на колени.
– На этом все.
– Спасибо, – отозвалась я.
Но он уже на что-то отвлекся и углубился в свои мысли, водя пальцами по корешку какой-то книги, слово это была брайлевская азбука или рука давней возлюбленной, так что я ушла, прикрыв за собой тяжелую дверь.
Я вернулась в общежитие, но в коридорах, к моей радости, было тихо, и моя соседка тоже куда-то ушла. Надо бы позвонить Брайану, подумала я, но не решилась. Проболтавшись о себе профессору Ариэлю, пусть даже самую малость, я ощутила себя страшно уязвимой. При виде Брайана я и ему могла проболтаться, только вот к последствиям разоблачения своего обмана я была не готова. Вместо этого закинула в свой скейтерский рюкзак – пережиток бунтарского периода в старших классах – домашку, книгу Зебальда, грязное белье и ушла. На вокзале я за доллар прикупила пачку пересоленного попкорна и уехала на первом пригородном поезде в Пенсильванию.
К тому моменту, как я села в пассажирский самолет во Франкфурте, я не спала уже вторые сутки и боялась буквально всего. Тряслась от страха, что на взлете заложило уши, что я могу подхватить какую-то заразу от мужчины, которого через проход рвало в бумажный пакет, да и всего, что бы меня ни