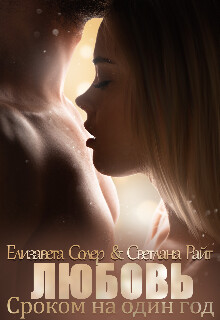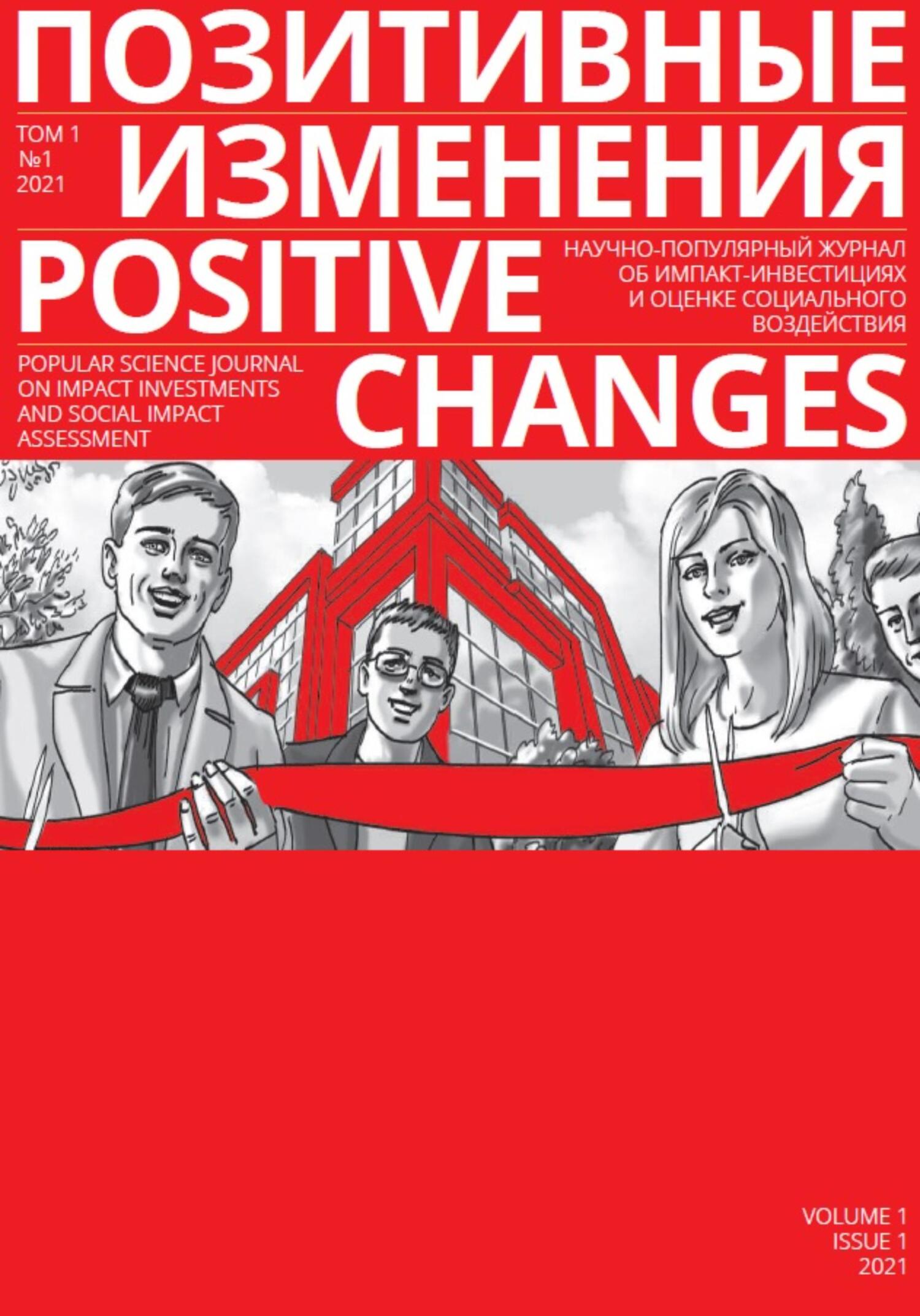вам это отлично известно. Вам заплатили пятьдесят тысяч крон, чтобы вы обезвредили меня.
— Когда они об этом сообщили: еще дома или уже здесь?
Она задумалась.
— Они объявили об этом только здесь, — призналась она.
— Не думаю, что это правда, — серьезно сказал он. — Вам не стоит верить всему, что твердят голоса. Они могут обманывать.
— Старый ханжа, — пренебрежительно отозвался Герт. — Он никогда мне не нравился. Помогал тебе терпеть мои измены, но это было против моего плана. Он отнял тебя у меня, отсюда все несчастья.
Испуганная, она пошла на попятный.
— Понятия не имею, о каких голосах вы говорите. Я не слышу никаких голосов.
— Да-да, допустим, всё так.
Он заправил ее свежевымытые волосы за ухо и потрепал по щеке.
— Вы не против, если Гитте вас навестит? — поинтересовался он. — Она просила у меня разрешения.
— Разреши, — сказала Гитте, — ведь это всего-навсего мой двойник.
— Нет, — ответила она покорно, — я совсем не против.
— Завтра вас переведут в отделение, — добавил он. — Нам очень нужна ванна, и, кроме того, здесь не слишком-то уютно.
— Ох, нет, — всполошилась она, — я не хочу оставлять голоса.
И сразу пожалела о сказанном.
— Я имею в виду вас и медсестер, — неубедительно объяснила она.
— Голоса отправятся следом, — серьезно заверил он. — Они будут с вами и там.
— Я скоро вернусь домой? — спросила она. — Я не собираюсь писать на вас заявление, и вы можете оставить себе все деньги. Даже если это всё так и было, полиция ни за что мне не поверит, ведь я сумасшедшая.
Она подняла руки над головой, словно в знак того, что совсем безобидна. Настолько безобидна, что нет смысла тратить на нее время. Этому она научилась еще в школе. Ей вспомнилась встреча с Минной в отделении токсикологии. «А мы-то все принимали тебя за страшно тупую». Миру не стоило ее бояться — она сама боялась мира. По ней всегда больно било, если она забывалась и выдавала что-нибудь такое, что сейчас пыталась отрицать, — то же самое случилось и в проклятом интервью, о котором упоминали мать и Гитте.
— Вернетесь домой, как только выздоровеете, — заверил доктор.
— Тогда я научусь печь белый хлеб.
— Думаю, это совсем не сложно, — улыбнулся он.
Стоило ему уйти, как сразу за переговорной решеткой возникла Гитте. Она прижалась лицом к прутьям так тесно, что нос совершенно расплющился.
— У тебя плохо получилось, — запричитала она. — Нужно научиться вести себя так, будто ты здорова. Только и надо, что поупражняться. Тебе придется это делать, когда придет мой двойник. Обращайся с ней так, как делала дома, — словно она стоит кастой ниже тебя.
— Ничего подобного я о тебе не думала, — испугалась она. — Я сама выросла в бедности. Все люди рождены равными, это закреплено в американской Декларации независимости.
— Не стоит любить Америку, — предостерегла Гитте, — пока она не уберется из Вьетнама.
— Я всегда презирала мир за пределами Вальбю Бакке, — произнесла она так тихо, что Гитте не должна была услышать.
— Именно поэтому ты так крепко вцепилась в своих детей, что едва их не задушила. Помнишь то небольшое стихотворение Генри Парланда, которое ты так любила? Прочитай-ка мне его.
Она повиновалась, и слова заскользили у нее на губах — казалось, только сейчас наконец ей открылся их смысл:
Мать одна меня как-то спросила:
«Скажи мне,
Чего любви моей
Не хватает?
Дети мои не любят меня так,
Как я люблю их».
Ответила я:
«Равнодушия,
Немного успокаивающего равнодушия
Не хватает твоей любви», —
Она ушла,
Потупив взгляд.
— Да, — ответила Гитте, — и ты узнала об этом впервые, когда тебе стало безразлично лицо Сёрена. Но это не навсегда. Как только ты начнешь сочувствовать всему страдающему человечеству, то снова полюбишь и Сёрена.
Но она задумалась: полюбит ли ее Сёрен? Забудет ли он когда-нибудь, что она предала его, чтобы спасти свою шкуру?
Гитте исчезла, все голоса замолкли. Сквозь высокое окно упала широкая полоса солнечного света. Она удивилась: неужели на улице весна? Она понятия не имела, сколько провела взаперти.
Пациенты слонялись взад-вперед по длинному коридору, халаты были либо слишком малы, либо слишком велики. Их случайные лица, туманные и серые, подходили им так же плохо, как эти халаты. Но, казалось, люди довольствовались тем, что могли дотянуться до отверстий для глаз и смотреть сквозь них, словно через пыльные окна, которые давно никто не чистил. Одной рукой они опирались о стену, кренившуюся к палате, и отлично понимали, что однажды в своей желтой заброшенной усталости она упадет и раздавит их. Голоса держали при себе: кто знает, вернутся ли они, если их отпустить. Лучше всего было позволять голосам складывать простые и повседневные слова, чтобы они не выражали ничего личного и могли принадлежать кому угодно. Время от времени они останавливались, словно их звал кто-то снаружи — муж, ребенок или воспоминания. Они мотали головой и на мгновение теряли контроль над наклонной стеной. Забывали о ней и снова принимались за свою изнурительную работу — отделяли часы друг от друга, чтобы вечера не обрушивались на них среди дня, а ночи плыли длинной сплошной чередой так, что никто не понимал, куда подевались дни. Дойдя до конца коридора, они каждый раз поднимали взгляд на огромные скрипучие настенные часы, стрелки которых часто забывали двигаться. Между пациентами сновали невысокие юркие медсестры, окутанные уверенностью своего пола и защищенные от заразы, как работники лепрозория. Произошло нечто особенное, оно пробралось под кожу Лизе с привычной спокойной повседневностью. Одна пациентка покинула свое место и, подойдя к Лизе, коснулась ее руки, словно желая удостовериться, что она настоящая и сквозь нее нельзя пройти, как сквозь радугу. «Вы кажетесь такой милой, — произнесла она ровным отвлеченным тоном. — Будьте так добры, скажите, где здесь выход. Мне пора домой, надо собрать внука в школу». Лизе указала на дверь, ведущую к лестнице, которую она сама еще ни разу не видела и даже не представляла, как выглядят ее ступеньки. Женщина взялась за ручку: дверь оказалась запертой. Без малейшего разочарования она вежливо обратилась к медсестре за ключом. «Но вы не можете уйти, не пообедав, — ответила девушка. — Как только поедите, мы отопрем вам дверь». Похоже, пациентку успокоил этот ответ, хотя она слышала его уже сотни раз, — ритуал, чье изначальное значение уже никто не помнил.
Лизе приняла свою новую хрупкую действительность, как шкатулка — крышку, которая подходит, только если растягивается и прилагает изрядные усилия. Так всё и