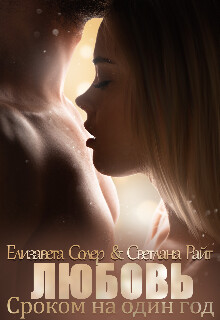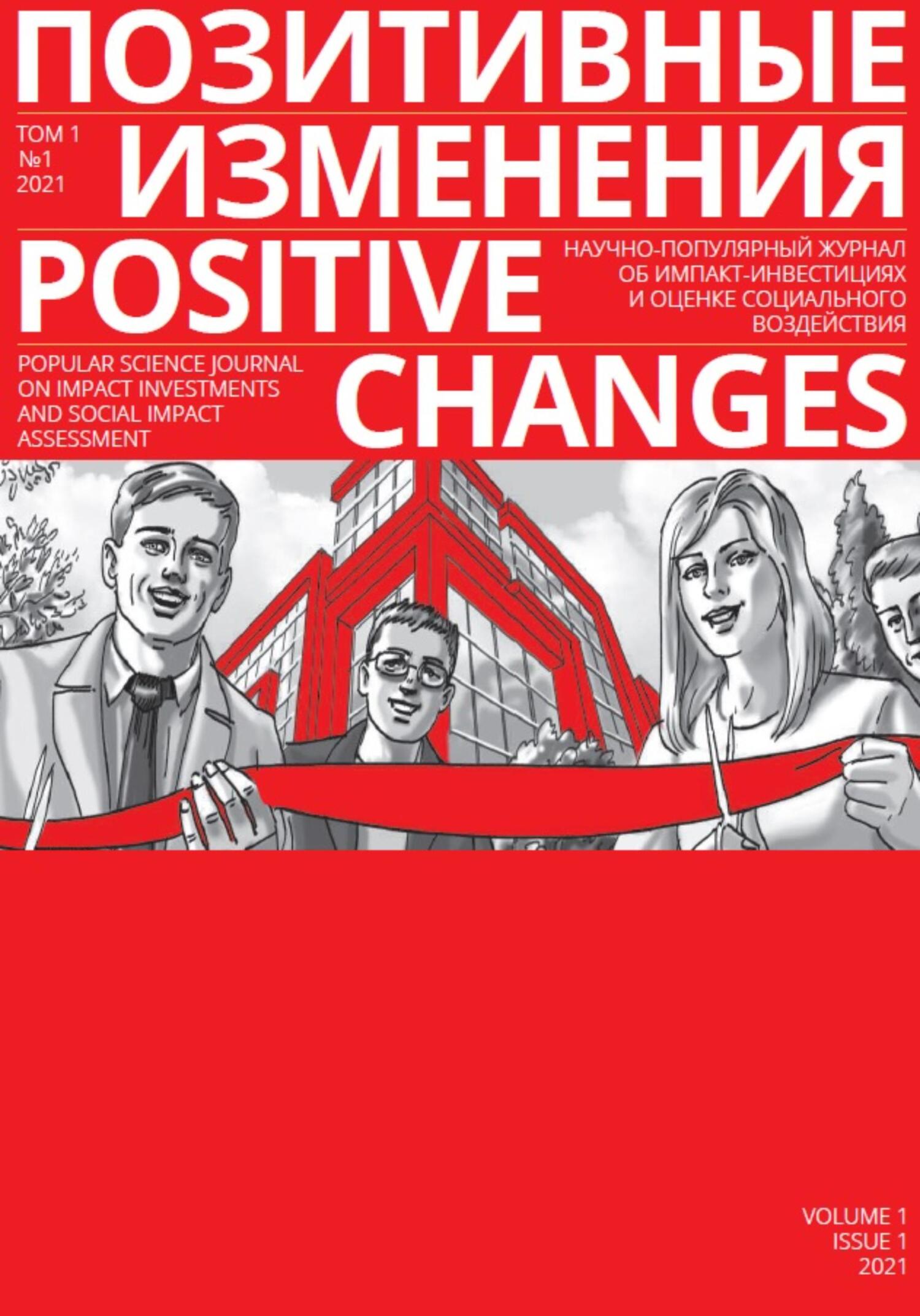продолжалось, и оставалось лишь надеяться, что ничего не изменится. Доктор Йёргенсен не солгал. Голоса последовали за ней. Они поселились в батареях под зарешеченными окнами, в новой подушке и в трубах туалета, который она посещала чаще необходимого. Теперь это были лишь Гитте и Герт, и они вели ее мысли в правильном направлении, как маленьких детей, которые не могут сами забраться по отвесному склону. Голоса общались с ней так ласково, что сдача в плен сладостно ее опьяняла. Ей еще многому предстояло научиться. Кое-что она скрывала от них. Например, она до сих пор не испытывала любви в полной мере и на краю ее безумия маячила слабая истертая кромка чего-то нормального и хорошо знакомого, что могло подвергнуть ее опасности, если за этим не следить. Ей нужно было любить только Гитте, и постепенно чувство распространялось и охватывало каждое создание, страдающее от бедности, несправедливости, увечья, диктатуры или преследования за инакомыслие. Гитте постоянно напоминала ей о последней решающей сцене за пыточной решеткой, но она понимала, что подобное повторится, стоит лишь на мгновение обнажить перед ними слабость и сомнения. Но более всего следовало остерегаться доктора Йёргенсена и коварных приступов прежнего доверия к нему, которое слишком часто ее охватывало. Ей не всегда удавалось убедить доктора в своей безобидности. Под его сверлящим взглядом она чувствовала себя прозрачной, ее охватывал страх, когда он утверждал, что она идет на поправку. «Я слышу голоса, — приходила она себе на помощь, — такое бывает только у сумасшедших». Она перестала следовать советам фру Кристенсен, так как уже не хотела вернуться домой. Там ее поджидали лица — один ее вид обожжет их серной кислотой. Кроме того, Герт и Ханне сначала должны пожениться: этого требовал непонятный и неудобный мир — в него Герт сам себя поместил, словно на старинное живописное полотно, которое не решался покинуть. Он хотел вписаться в двадцать восьмую зарплатную вилку, а для этого надо было попасть в систему среднего класса. Иметь сумасшедшую жену не возбранялось, но тогда ему пришлось бы как-то иначе узаконить новые отношения. Любовь к молодым подтверждалась только браком; на этой волне он мог удрать из старого мира и получить единственный шанс выжить. Гитте могла бы уволиться за счет погибшей юности Лизе: тогда Лизе приходилось бы по утрам подавать ей кофе в постель, и они вместе не спеша рассуждали бы о мужчинах, детях и любви, словно беседуя с давно умершим, как бывает разве что в счастливом сне.
Однажды Гитте спросила из туалетного бачка:
— Если бы понадобилось, вышла бы ты замуж за темнокожего?
— Да, — потрясенно солгала она.
— Ты это не всерьез, — строго сказал Герт. — Ты думаешь, что они воняют, а члены у них такие огромные, что тебя разорвет. А еще ты считаешь евреев скрягами.
— Мне никогда не хватало времени, — отбивалась она, — чтобы составить об этом хоть какое-то собственное мнение. Я хотела описывать мир вокруг себя, а не участвовать в нем.
Неожиданно в дверях показалась фрекен Анесен и, ласково улыбаясь, окинула ее взглядом.
— С кем это вы разговариваете? — спросила она.
— Ни с кем, — испугалась она и с силой потянула за веревку слива.
— Нам хорошо известно, что вы слышите голоса, — сказал кто-то другой. — Не стоит так уж бояться потерять лицо.
В ужасе она прикоснулась к своему лицу: морщинистое, оно напоминало лицо матери, потому что та забывала придерживать его, когда оно мчалось сквозь будущее, словно по канализационной трубе, на другом конце которой свет из поддельного окна заманчиво падал на старый мусор и убегающих крыс.
Она вернулась в палату и легла в постель. Ее соседка всегда держала голову в нескольких сантиметрах от подушки. На сером неизменном лице только глаза казались живыми, внимательными и настоящими. Когда ее пытались кормить, она крепко сжимала губы и разжимала их только для самых нежных и ласковых слов из давних колыбельных. Она никогда не отвечала, если к ней обращались. Рядом с кроватью Лизе стоял стол: на нем лежали мыльница, расческа и зубная щетка — всё, без исключения, казенное, никак не связанное с подобными домашними предметами, которые она оставила как мечту, без надежного следа. Херре Петерсен зашел к ней с одолженным у кого-то выражением, прикрепленным к лицу словно чужое бремя: из-за этого он выглядел смущенным, и ей постоянно приходилось помогать ему и делать вид, что всё в порядке, — так притворяются дети, разворачивая нежеланный подарок, потому что взрослые всегда забывают самое важное — винтик для заводной мыши или батарейки для лампы в кукольный дом.
— К вам пришли, — произнес он. — Какая-то девушка. Она ждет вас в комнате для посещений.
Охваченная неясным беспокойством, она вошла в комнату, с которой у нее не было связано никаких воспоминаний. Пациенты сидели здесь напротив посетителей с однообразными лицами из прошлого, взятых в гардеробе, где те висели на крючках, как никому не подошедшая одежда. Гитте, устроившись в углу, оживленно беседовала с пациентом, чье лицо казалось вырванным из контекста, как предложения, которые Гитте выдирала дома из книг и нацепляла на себя точно костюм — и никто не заподозрил бы, что он не пошит для нее по заказу.
— Добрый день, Гитте, — произнесла она и со страхом заметила, как уже знакомое отвращение замельтешило в сознании ясной отчетливой мыслью из беспокойного мира, который она когда-то оставила, как оставляют неразрешимую и невыполнимую задачу. Лицо Гитте выступало из платья, как цветок из вазы, воду в которой забыли сменить. Оно было увядшим и понуренным, а мечтательное выражение глаз свидетельствовало о воспалении, а не о благородстве натуры.
— Лизе, — воскликнула она. — Как же я рада тебя видеть! Нам не разрешали тебя навещать, потому что ты была слишком больна. Садись, давай-ка поболтаем.
Лизе села, натянув на колени грубое платье. Чулки спадали, хлюпающие тапки неожиданно напомнили ей о маленьких туфельках, что Герт покупал Ханне. Она скучала по ее голосу, который больше никогда не появлялся. Неожиданно в сердце закралось сомнение — оно забилось как барабан в трубах ванной. Может, это и есть настоящая Гитте, а за переговорной решеткой прячется лишь ее копия.
— Как дела дома? — равнодушно поинтересовалась она.
— Хорошо, — ответила Гитте. — Но мы все по тебе скучаем. Особенно Сёрен. У них на уроке физики что-то взорвалось, и он повредил щеку, но всё уже заживает.
— Это от серной кислоты, — в ужасе произнесла она, — ты же обещала его пощадить.
— О чем ты?
Ее прохладный пытливый взгляд покоился на Лизе болезненным нерушимым воспоминанием.
— Ни о чем, — ответила Лизе. — Просто я сумасшедшая.
— Да, —