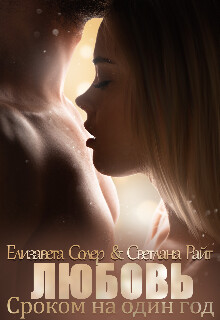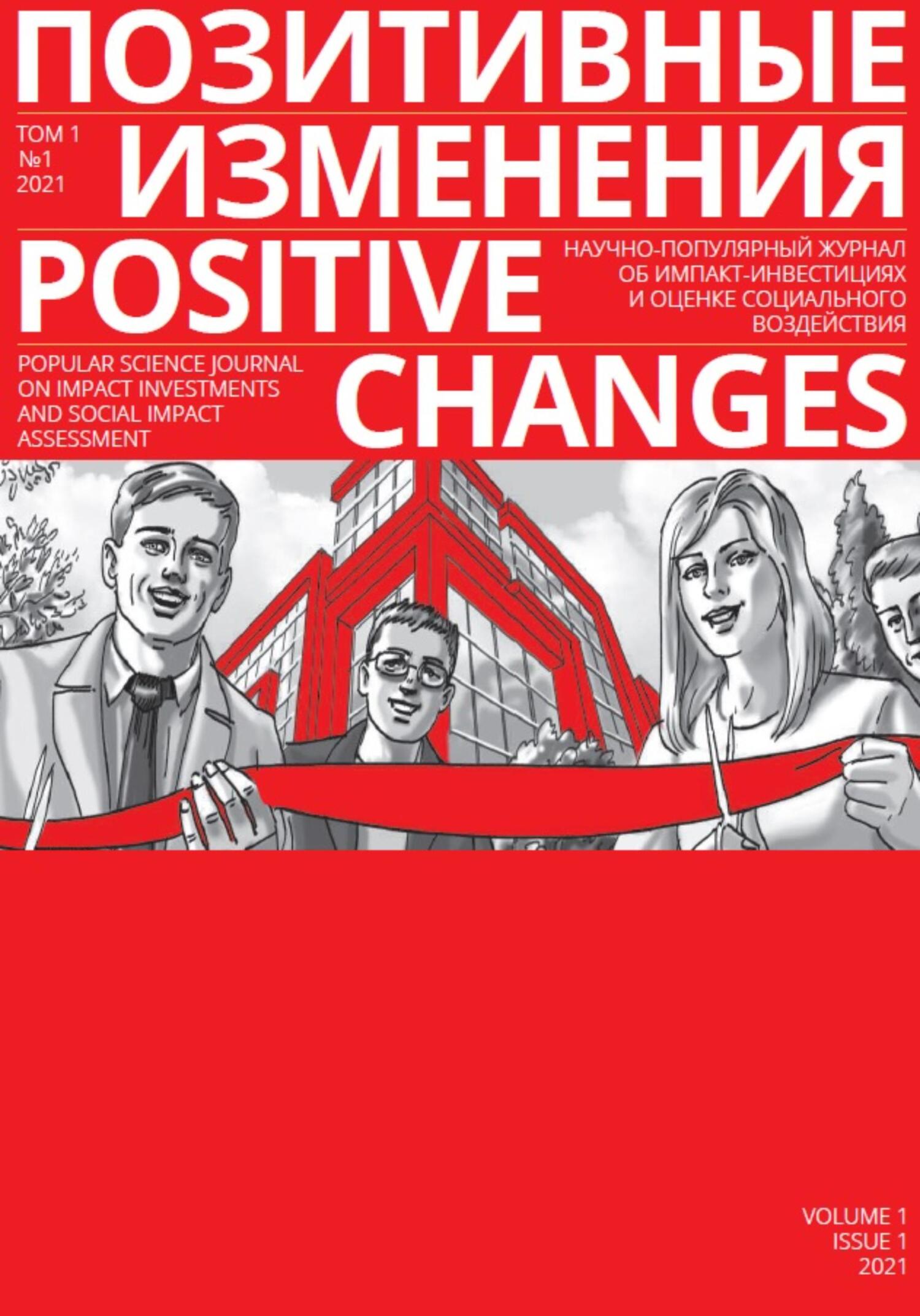безропотно согласилась Гите. — И тебе нужно побыть здесь, пока не выздоровеешь. Смотри, я принесла тебе сигарет и помаду прихватила.
Она достала из сумки пачку «Принца». Лизе схватилась за помаду: она держала отполированный футляр так крепко, словно это был дорогой подарок, нежное приветствие из мира, в который ей никогда не вернуться.
— У тебя есть зеркало? — спросила она.
Гитте подставила ей небольшое карманное зеркальце, и Лизе поелозила красной помадой по бледным пересохшим губам.
— Спасибо, очень мило с твоей стороны, — поблагодарила она.
Слова в ее рту были плоскими и сухими, как и у других пациентов, чьи голоса вырывались из них, словно из заводных кукол, почти израсходовавших заряд батарейки. Посетители же говорили очень громко, будто их могли не услышать, шелестели пакетами с фруктами или упаковочной бумагой с едой и дрожащими руками гладили лица пациентов, точно стремясь убедиться, что те еще живы.
— Почему ты так поступила? — спросила Гитте. — Для Герта это был тяжелый удар. Он и так был на самом дне из-за самоубийства Грете. Не представляю, как бы он справился, если бы не Ханне. Она такая самоотверженная и делает всё, чтобы утешить его.
— Что именно она делает? — озадаченно уточнила Лизе.
— Ах, да много всего. Вечером они идут на выставку «Роман в космосе». Современных писателей не публикуют. Вот они и вывешивают книги в каком-нибудь заведении, а зрители участвуют в событиях, словно персонажи. Очень интересно. Если тоже хочешь идти в ногу со временем, надо писать таким вот особенным образом.
Неожиданно тишина прокралась в нее, словно новая действительность, которую ей предстояло принять. Жужжание в ухе исчезло, а с ним — дрожание и временность мебели и стен. Лицо Гитте было твердым и важным, кожа слегка натянулась на скулах. Беднякам к такому не привыкать, всё равно что носить старую одежду. Она надела прежнее платье Ханне, оно село по фигуре и только в груди было тесновато. Одну пуговицу оставила расстегнутой — под ключицей заметно бился пульс. Нога Лизе нервно подергивалась точно так же, как у остальных пациентов. Им хотелось, чтобы посетители поскорей ушли, — не терпелось продолжить скитаться по коридору с послушными и печальными лицами, опираясь руками на накренившуюся стену. Пациенты выглядели плоскими, словно бумажные куклы, в то время как у Гитте и других посетителей была оборотная сторона, и они не боялись ее показать. У них были кожа, кости, кровь и нервы, и от них исходил запах разных времен года и воспоминаний, которые страхом били по ноздрям сумасшедших, и те больше не могли его выносить.
— Я научилась любить тебя как собственных детей, — схитрила Лизе.
— Это неправда. Ты меня терпеть не можешь. Только вышвырнуть не решаешься, потому что я слишком много знаю.
Ее гортань оставалась совершенно неподвижной, и узкие губы были крепко сжаты, скрывая за собой мелкие, словно молочные, зубы. Она обнажила их в улыбке.
— Я тоже тебя люблю, — призналась она. — Я считаю, что ненависти между поколениями не существует. Могенс — председатель студенческого совета, и они проводят собрания каждый вечер. Хотят уволить одного преподавателя: он совершенно не разбирается в новом времени.
— Но я разбираюсь, — испуганно ответила она. — Люди спят друг с другом ради дружбы, а пол и родство не играют никакой роли. Я осознала всё это, когда сошла с ума. Отлучусь в туалет, ты не против?
Ей нужно было услышать голос Гитте в туалетном бачке, она не могла без нее обойтись. Гитте сама не знала, что у ее голоса похитили эхо. Она даже не подозревала о потрепанных сомнениях и опасной пробуждающейся нормальности Лизе, отдававшейся сильной болью в костях.
— Гитте, — позвала она, — ну скажи хоть что-нибудь.
Но из бачка раздалось лишь далекое шипение, и она поняла: голоса покинули ее, потому что она не испытала никакой любви к девушке в комнате для посещений, хотя та и принесла сигареты и помаду. Она забрала свой голос обратно, и он лежал на ее языке, тугой и блестящий, точно свернувшаяся кольцом змея, — готовый к нападению. Лизе ощущала себя беспомощной и покинутой: ее пугало осознание, что болезнь выползает из нее, как улитка из своего домика, голая, дрожащая и беззащитная. Она нуждалась в ванной, словно в потерянном доме детства.
— «Лолита», — произнесла Гитте, натягивая на себя пальто, — было интересно ее перечитать. Я узнала в ней себя. Мне было всего двенадцать, когда меня соблазнил муж директрисы. Он испытывал оргазм от того, что я лизала его глазные яблоки. Они были жесткие и соленые, как мидии. Старуха ненавидела меня так же, как мать Лолиты ненавидела ее. Кстати, совсем забыла: тебе привет от Ханне.
Она с диким весельем оглядела внезапно состарившийся силуэт Лизе, которая сильно наклонилась, будто в попытке ухватиться за грядущий год.
Гитте протянула перед собой руки, и на мгновение они оказались на Лизе, холодные и сухие, как камень.
— Я жду не дождусь, когда ты вернешься домой, — произнесла она.
— Осталось недолго, — ответила Лизе, — но, пока я слышу голоса, меня не выпустят.
На самом деле она больше не слышала голосов. Но приходилось скрывать это от всех, пока Ханне и Герт не поженятся. Тишина желчью заполнила ее рот, когда она заняла свое место в рядах слонявшихся пациентов. Херре Петерсен дотронулся до ее руки, и она заметила, что к нему вернулись его собственные глаза. Они немного съежились, точно два сухофрукта, и глазницы не вполне им подходили, но она знала: скоро они приспособятся.
— Вам нужно в смотровой кабинет, — сказал он. — Доктор Йёргенсен хочет с вами побеседовать.
Она сразу заметила, что во время утреннего туалета он приложил к своему лицу изрядные усилия — так обычно чистят и гладят редко надеваемый костюм, готовясь к большому празднеству. Но день уже клонился к сумеркам, и из-под кожи доктора, как щетина у брюнетов, которым приходится бриться дважды в день, пробивалась усталость. Его взгляд напоминал угасающий огонь за слюдяным окошком деревенской печи. В ней снова лихорадочно заполыхала привязанность, окрашенная страхом за его безопасность, — то же самое она чувствовала, когда фрекен Анесен рисковала, чтобы ей помочь.
— Вы были рады видеть Гитте? — поинтересовался он.
— Да, — ответила она. — Я ее больше не боюсь и наконец-то научилась ее любить.
Она заметила: слова выкатывались медленно, как из капельницы, и что-то в них было не так. Они должны соответствовать его представлению о ней, потому что только так можно утихомирить злую волю мира.
— Вы ей ничем не обязаны, — удивился он. — В вашей жизни есть люди поважнее домработницы. Этого от вас потребовали голоса?
— Да, —