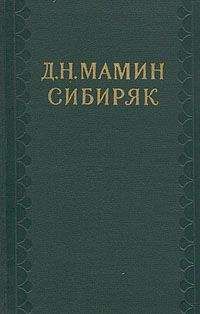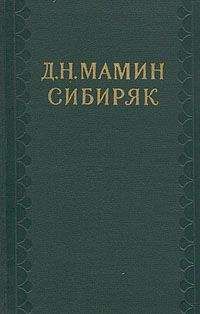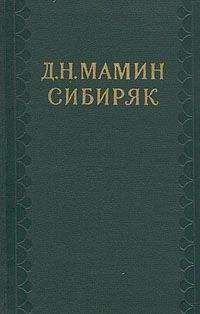Выдвинуты были вперед либеральные принципы, общественная совесть, ответственность пред плательщиками: надвигавшаяся докторская клика била теперь Сажина его же собственным оружием, и он, наконец, увидел, что он — один. Его недавние союзники не погнушались брататься с кабатчиками и волостными писарями: à la guerre, comme à la guerre.
Душой этого движения сделался салон Софьи Сергеевны, где царил теперь доктор Вертепов, работавший рука об руку с Прасковьей Львовной, которая приняла самое деятельное участие в кипевшей свалке. Всего трагичнее было то, что против Сажина выступили люди, которых он искренно уважал, как чета Глюкозовых, и что именно эти люди теперь лезли на него с пеной у рта. За собой он не знал никакой крупной вины и старался только об одном — вести все дело спокойно. Решительный момент наступил в осеннюю сессию, пятую в его земской службе. Да, это было горячее время. Охлаждение к земским делам сменилось самым неистовым любопытством, и публику опять пришлось пускать по билетам. Михеич не знал, что ему делать на его ответственном посту. Публика несколько раз чуть не раздавила его в дверях.
— Милостивые господа… невозможно!.. — орал он, защищая грудью осаждаемый пункт. — Местов нету, говорят вам русским языком. Нету местов…
До последнего момента Сажин оставался спокоен и равнодушно смотрел на ряды своих врагов. Он даже был уверен в собственном успехе и очень развязно разговаривал с нейтральными единицами. А из публики на него смотрели десятки злых глаз: тут был и доктор Вертепов, и Куткевич, и Ханов, и Прасковья Львовна, сидевшая рядом с Софьей Сергеевной, и Курносов, и Петров, и Ефимов. Перед тем, как подняться к своему пюпитру, Сажин тревожно обвел эту публику еще раз глазами и успокоился — Анны Ивановны не было, а у окна на своем обычном посту сидел один Пружинкин, превратившийся, как охотничья собака, в одно внимание. Председательствовал тот же «акцизный генерал», как и в первую сессию. Когда Сажин стал на свое место, ему бросился в глаза только что вышедший из типографского станка номер «Моховского Листка» с длинной поэмой на первой странице. Услужливая рука не только подсунула этот номер, но и подчеркнула красным карандашом название: «Именинник». У Сажина зарябило в глазах от этой приятной неожиданности: его тащили в грязь в его собственной газете, и Щипцов нанес последний роковой удар. В стихах говорилось о нем не только как об общественном деятеле, но была поднята из могилы вся история с грёзовской генеральшей, подкрашенная и разбавленная самыми пикантными подробностями. В публике уже мелькали номера «Моховского Листка», и Сажин на мгновение растерялся. Впрочем, это было одно мгновение, — то малодушие, которое испытывает обойденный с тылу зверь.
«А, так вы вот как…» — думал Сажин, оглядывая собрание. Он теперь только понял, что всякая борьба напрасна: все были против него. Его нужно было выжить, и только тогда все успокоятся. Это было стихийное, массовое чувство, действовавшее тем заразительнее, что для него нехватало серьезных причин, недостаток которых заменялся слепым азартом. Оставалось только умереть с честью. Земская битва продолжалась ровно 10 дней. Сажин никогда еще не говорил так увлекательно и делал в своем роде чудеса, но его слова и задушевные чувства уже не производили прежнего впечатления и отскакивали, как горох от стены. Серьезные обвинения пали сами собой. Оставалось несколько мелких, чисто-хозяйственных промахов и недочетов, какие возможны в каждом деле; за них и ухватились. Старонавозники и новонавозники торжествовали: красный зверь был обложен именно этими мелочами и пустяками. Развязавшись с сессией, Сажин добровольно отказался от председательского кресла и по пути вышел из гласных. Публика торжествовала, счастливая низложением «диктатора» и еще не предвидя того времени, когда ей придется горько пожалеть об удалении Сажиных из состава земства, когда «черные сотни» кулаков и маклаков вытеснят из многих земств всякое участие представителей интеллигенции.
Домой Сажин принес горькое чувство несправедливой и ничем незаслуженной обиды. Лично он мог быть даже нехорошим человеком, но, как земский деятель, он считал себя безупречным. Оплеванный, разбитый нравственно, он мог сказать только одно: за что же?.. Ответа не было и не могло быть. За ним стояла глухая ненависть и навсегда погибшая репутация.
— Они придут еще ко мне!.. — говорил он иногда самому себе и сжимал кулаки. — Они дорого заплатят за этот coup d'état.
Но это были детские мечты, и в следующую минуту Сажин сознавал, что никто к нему не придет и земство отлично обойдется без него. Ему оставалось отсиживаться дома в обществе Василисы Ивановны и Семеныча. С «молодым Моховым» все было покончено, а для новых знакомств и связей у него не было сил. Наступили тяжелые дни полного одиночества и безделья. Последнее было особенно тяжело после пятилетней горячки. Вместо живых людей оставались книги и газеты. Сажин шагал теперь по пустым комнатам, как зачумленный, и почти никто не заглядывал к нему из недавних друзей и почитателей.
В один из скверных октябрьских вечеров, когда шел мокрый снег, Сажин сидел в гостиной Василисы Ивановны, где теперь любил пить чай. Самовар добродушно ворчал на столе, Василиса Ивановна пощелкивает спицами, на стенке почикивают старинные часы, и время идет как будто скорее. За остывавшим стаканом чая Сажин расспрашивал старушку про старину, как жили прежние люди, про разную дальнюю родню, про общих знакомых и разные необыкновенные случаи моховской истории. Ему нравилось погружаться с головой в этот маленький мирок маленьких людишек с его маленькими интересами, напастями и радостями. Они сидели и теперь, разговаривая о старине.
— Так лучше было прежде-то? — спрашивал Сажин уже в третий раз, не замечая этого повторения.
— Конечно, лучше, а то как же?.. Нынче вот суеты больше, потому что начальство ослабело и страх в народе уменьшился…
В маленькой передней в это время послышалось предупредительное покашливанье, и в комнату вошел Пружинкин.
— Ну, и погода, — говорил он, здороваясь. — Настоящий последний день Помпеи…
Сажин обрадовался появлению старого знакомого, — все-таки свежий человек. Они весело допили чай у Василисы Ивановны, а потом Пружинкин заявил, что он завернул собственно к Павлу Васильевичу «по одному дельцу».
— Пойдемте ко мне, — предлагал Сажин, обрадовавшись случаю перекинуться живым словом. — Я теперь совершенно свободен… Вы, вероятно, насчет навоза?
— Ах, Павел Васильич, Павел Васильич… — шептал Пружинкин, когда они по узкой и темной лестнице поднимались из половины Василисы Ивановны наверх в столовую.
Сажин провел гостя прямо в кабинет и усадил в кресло.
— Так первое дело: навоз? — говорил он с улыбкой.
— Навоз навозом, Павел Васильич, а я к вам пришел по особенному дельцу, — политично тянул Пружинкин, разглаживая свою бороду. — Был я тогда в собрании, когда свергали вас… Ничего, Павел Васильич, потерпите: призовут-с!.. В ногах будут валяться… Уж вспомните мое глупое слово-с.
— Если будут валяться в ногах, так я, пожалуй, и пойду…
— Непременно-с!.. Теперь на наше земство и не глядел бы: как петух с отрубленной головой мечется, а толку все нет… Славный у вас кабинетец, Павел Васильич… Только вот обои надо бы переменить: запустить, например, под дубовую доску, или в том роде, как под бересту выкрасить. Видел я у одного, барина этак же берестой разделано.
— Можно и под бересту…
Нехитрые речи отозвались в душе Сажина, как эхо собственных мыслей, и он вдруг почувствовал себя хорошо, как давно с ним не бывало. Одно присутствие Пружинкина уже действовало на него успокаивающим образом, хотя он припомнил случай, как выпроводил его тогда к Софье Сергеевне с просьбой «обезвредить». Даже отступления и болтовня Пружинкина теперь нравились Сажину. Конечно, этот мещанин — неисправимый мечтатель, но, право, в нем есть что-то такое…
— Оставайтесь ужинать, Егор Андреевич, — предложил Сажин, когда Пружинкин взялся было за шапку.
— Покорно благодарю, Павел Васильич…
За ужином старик окончательно разговорился и по пути рассказал все городские новости, хотя особенно интересного ничего и не было. Потом он достал из кармана захваченные на случай бумаги и посвятил Сажина в свои проекты еще раз.
— Кровью ведь все добыто!.. — азартно повторял старик, колотя себя в грудь кулаком. — Было посижено и было подумано.
— Хорошо, хорошо… Я все прочитаю, теперь у меня двадцать четыре часа свободного времени.
— Эх, Павел Васильич, Павел Васильич!.. Ну, да что тут толковпть: все равно призовут-с…
Русское время, в противоположность английскому, как известно, составляющему деньги, является в подавляющем большинстве случаев прямым дефицитом, особенно в провинции, где его даже убивать хорошенько не научились, как в столицах. Тянется, тянется, и конца ему нет… Именно так было с Сажиным, который опускался на своих глазах. Свои личные дела он забросил и проживал родительские капиталы день за днем. Этот недостаток заботы о насущном куске хлеба даже огорчал его: не было даже обыкновенной необходимости для всех — работать. Он вел ту странную жизнь, как это бывает только на святой Руси: отшельник не отшельник, а что-то в этом роде. Отсиживаться в четырех стенах — это оригинальная особенность всех русских «чудаков», каких немало является в каждом городе.