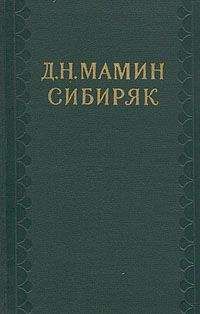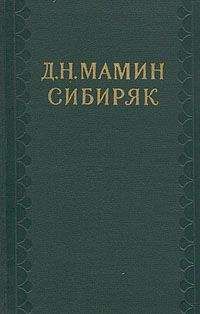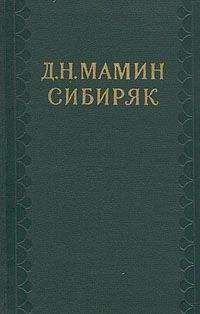— Они ушли к себе в комнату и дверь на ключ заперли. Генеральша в саду очень плакали.
— Дура! Тебя кто об этом спрашивает?
Обругав горничную еще раз, старуха поплелась на свою половину. По пути она прислушивалась у дверей в комнату дочери, где было тихо, как в могиле, покачала головой и пошла дальше.
«Лишнее, видно, сболтнуло их-то превосходительство! — думала она, пробираясь по коридорчику. — Оно, конечно, со всяким грех может быть. Ох-хо-хо! Горе душам нашим! Только с холостого человека непокрытому месту-вдове нечего взять: прилетел, как ветер, поиграл и был таков!»
Анна Ивановна слышала, как подходила мать к двери, и даже затаила дыхание, — ей и без того было слишком тяжело… Да… теперь все погибло и навсегда… самое чистое и дорогое чувство разбито… возврата нет. Ей было даже страшно думать о том счастливом обмане, каким она жила час назад. Потом ей начинало казаться, что все это был один сон и что ничего подобного не могло случиться, — ведь она так верила в этого человека, которого выбрало ее сердце. И тут обман — самый худший из всех обманов… В душе девушки проносился быстрый ряд самых ревнивых картин: как он писал свои письма «маленькой фее», как целовал это улыбавшееся, счастливое детское лицо, как говорил свои остроты для одной «крошки Зоси» и как уходил домой, довольный и счастливый дешевой победой.
— О, как это гадко… как это ничтожно… — стонала девушка, пряча голову в подушки.
Осенняя ночь уже обложила город свинцовыми облаками. Мохов засыпал, улицы пустели. Злобинский сад не видал уже двух огоньков, приветливо глядевших через него друг на друга. Сажин не заходил домой и долго бродил по городу, не зная, куда деваться. Несколько раз он подходил к квартире генеральши, но не решался позвонить. Разве она — эта грёзовская головка — любила его… могла любить, а между тем из-за минутной вспышки отравила всю жизнь двоим. Может быть, она удержалась! Вспомнив покрытое пятнами лицо Софьи Сергеевны и как она била своим хлыстом по дивану, он понимал, что все потеряно и что возврата нет. Он видел, как живую, эту девушку, глядевшую на него с немым укором, и ему делалось совестно за нее. Домой он вернулся только в полночь, и Семеныч передал ему маленький конверт без адреса. Он прошел в столовую и, при свете стеаринового огарка, прочитал:
«Вы понимаете мои чувства и мое положение, Павел Васильевич, поэтому, надеюсь, избавите меня от ненужных встреч. У меня в душе остается еще настолько уважения к вам, что вы не унизите себя жалкими объяснениями и оправданиями. Прощайте навсегда. А. З-а».
И только… Ни жалоб, ни слез, ни кривлянья — все кончилось так же просто, как и началось. Сажин почувствовал себя в положении того человека, который неожиданно попал в темную комнату и в ушах которого еще стоит звон повернувшегося в замке ключа — выхода нет. Схватив себя за голову, Сажин глухо зарыдал…
В салоне генеральши Мешковой произошла маленькая революция. Сажин и Анна Ивановна, конечно, больше не показывались, и это внесло заметную пустоту в господствовавший состав постоянных посетителей. Все чувствовали, что чего-то недостает, и бранили Сажина, как главного виновника. Особенно неистовствовала Прасковья Львовна, огорченная в лучших своих чувствах, как она выражалась.
— Мне всегда этот Сажин казался подозрительным… — говорила она в интимном кружке. — Помилуйте, так могут делать какие-нибудь юнкера или парикмахеры.
— Это подлец! — провозглашал откровенно Ханов, счастливый случившимся скандалом. — Порядочный человек так не сделает: стянул две-три безешки, и тягу… Притом разыгрывать из себя узурпатора, диктатора, моховского Гамбетту…
Сама Софья Сергеевна ничего не говорила про Сажина и раза два даже попробовала его защищать, хотя это вызвало настоящую бурю негодования. Курносов, Ефимов, Петров — все были против Сажина, и каждый прибавлял в общее настроение что-нибудь свое: это — краснобай и эгоист, самолюбивый болтун и т. д. Одним словом, салон решился дать отпор и только выжидал время. Все-таки за Сажина была громадная партия, и во главе «молодой Мохов», хотя доктор Вертепов уже обнаруживал некоторые признаки несомненного ренегатства. Так, он в салоне начал появляться чаще обыкновенного и очень умненько вышучивал Сажина в третьем лице.
— Право, я нахожу, что этот Вертепов совсем не так глуп, как я думала раньше, — объясняла Прасковья Львовна. — Конечно, он вертоват, но это уж такая живая натура!..
Софья Сергеевна уверяла всех, что она терпеть его не может, и если не выгоняет из салона, то только по своей бесхарактерности. Действительно, были два случая, когда она наговорила Вертепову очень неприятных вещей.
Печальным свидетелем всего происходившего был один Пружинкин, который никого не обвинял, а только скорбел за всех. Да, старику было тяжело, и он чувствовал себя здесь уже чужим человеком, которому остается только уйти незаметным образом.
— Ты устрой какую-нибудь пакость, вот хоть с Прасковьей Львовной, — советовал ему Ханов, — а потом и в подворотню, как Павел Васильевич… В самом деле: умных слов ты много теперь знаешь и можешь показать свою прыть в качестве сына народа. Прежде мы просто развратничали, а нынче обманул бабу или девку, которая пид силу, и сейчас: «мне ваши убеждения, суда рыня, не нравятся»… Я вот давно хочу добраться до убеждений этой толстухи Клейнгауз.
Пружинкин ничего не возражал злорадствовавшему крепостнику и только грустно вздыхал: иужно было уходить… Он так и сделал… На прощанье Софья Сергеевна крепко пожала ему руку, хотела что-то сказать, но вся побледнела и только махнула рукой.
— Эх, ваше превосходительство… ваше превосходительство… — бормотал старик со слезами на глазах… — Как же теперь Теребиловка?
Софья Сергеевна ничего не могла сказать относительно Теребиловки и попросила Пружинкина не забывать ее. Когда он уже вышел в переднюю, она его вернула и порывисто проговорила:
— Если увидите Павла Васильевича, скажите ему, чтобы он берегся не своих врагов, а друзей.
— Хорошо-с, ваше превосходительство…
Пружинкин опять очутился в своей избушке и находил утешение только в обществе Чалки, который завертывал теперь к нему каждое утро. Вышитые генеральшей туфли были убраны со стола, бережно завернуты в старый номер «Моховского Листка» и попали в ящик конторки, где хранились разные другие редкости.
— Ты как будто не в себе? — осведомлялся иногда Чалко. — Можно средствие запустить… Кровь у тебя сгустилась.
Фельдшер не понимал сосавшей Пружинкина тоски, меряя всех на свой аршин. Да, старик сильно тосковал и не имел духа завернуть к Павлу Васильевичу. Он не то, чтобы обвинял его, а просто испытывал неловкое совестливое чувство при одной встрече с недавним кумиром. Все шло отлично, а тут все точно в яму провалилось… Даже в школе Пружинкин чувствовал себя чужим человеком и подозревал учительниц, особенно Володину, что они смотрят на него как-то подозрительно. То, да не то… Свои теребиловские дела, конечно, отнимали много времени, но все-таки выдавалась свободная минутка, и Пружинкина одолевала своя домашняя тоска.
В один из таких пароксизмов старик не выдержал и, скрепя сердце, отправился к Марфе Петровне. Давненько он не бывал в злобинском доме, и его тянуло проведать Анну Ивановну: что она и как?
— Милости просим, дорогой гостенек, — встретила его Марфа Петровна, ядовито прищуривая глазки. — Что запал?..
— Нездоровилось, Марфа Петровна…
— Так… Доигрался, видно, до самого нельзя?..
Пружинкин имел самый жалкий вид и скромненько уселся на самый кончик стула. В злобинском доме все было по-старому и стоял тот же воздух, пропитанный ароматом старинных специй. Та же Агаша оторопело металась по малейшему знаку, те же свертки в комоде «самой», тот же грубый голос у Марфы Петровны. На улице стояла зимняя вьюга, а здесь было так тепло и уютно, как в теплице — злобинский дом и походил на теплицу.
— Рассказывай, чего молчишь?.. — приставала Марфа Петровна: — вместе хороводился…
— Это точно-с, вышла маленькая ошибочка, хотя Павел Васильевич оказали Анне Ивановне большой преферанс…
— Да, ославили девку на весь город, а теперь я, видно, выкручивайся, как знаешь. Ну, да у меня короткие разговоры: есть кое-кто на примете. Не глянулся мне ваш именинник: пустой колос, голову кверху носит. Мы помоложе найдем…
— Уж это что говорить: свято место не будет пусто. Ежели насчет женихов, так это даже весьма просто… Первые невесты в-городе, помилуйте.
— Нет, меня в слепоту какую привели тогда! — сердилась Марфа Петровна. — Точно вот ни глаз, ни ушей не стало… А все это твоя верченая генеральша: кругом окружила старуху. Вострая бабенка, надо чести приписать, а я и ослабела для нее…
— А как здоровье Анны Ивановны?.. — решился, наконец, спросить Пружинкин после предварительных переговоров.