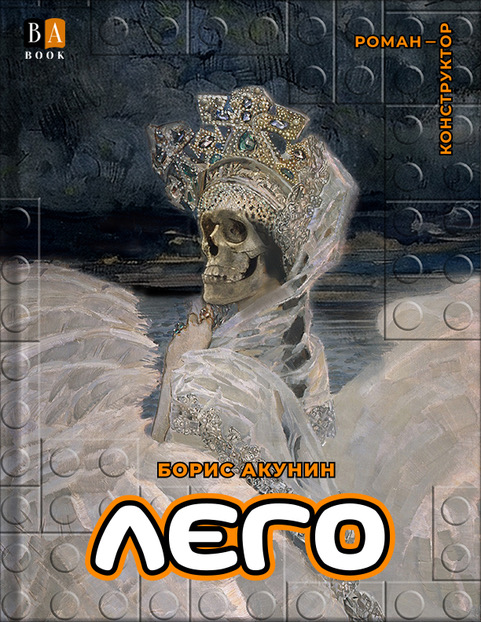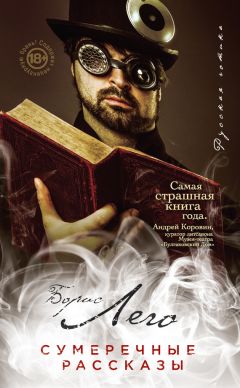— А ну тебя, — сказал она. — Тебя и нет вовсе. Ты мне примерещился. Катись, колобок, своей дорогой. Радуйся, что не съели.
И хотела подняться.
— Постойте! — вскричал он, придя в ужасное волнение. — Я чувствую, я знаю, что вы в беде! Неужто я ничем не могу вам помочь? Клянусь, я…
Задохнулся, не договорил.
На ее лице возникло и тут же исчезло злое, даже жестокое выражение. Или то было отчаянье? Фантазия рассеялась, он опять не понимал ее слов, не угадывал ее чувств.
Агафья Ивановна снова опустилась на стул.
— Так ты хочешь мне помочь? — улыбаясь лишь одним углом рта молвила она. — Что ж, помоги. Видишь вон того ферта?
Она показывала пальцем на поляка, игравшего в карты.
— Видишь у него под локтем монисто?
В самом деле, близ игрока на столе лежало ожерелье из серебряных монет, какие носят цыганки.
— Я проиграла его, а оно мне очень дорого. Отыграй — тем меня и выручишь.
— Женщины не играют в карты, — удивился Оленин.
— Мне что захочется, так и поступлю — вот мой закон. Я и играю, и одна вино пью, и люблю кого захочу. — Агафья Ивановна вскинула подбородок. Ее глаза блестели. — Явишь удачливость, вернешь мое монисто, может, и тебя полюблю. Я люблю удачливых.
— Играть я не стану, я зарок дал, а ожерелье верну, — сказал Константин Дмитриевич.
Он встал, подошел к играющим. Те воззрились на него.
— Пан желает присоединиться? — спросил «ферт».
— Я желаю выкупить у вас вот эту вещь. Сколько вам угодно за нее получить?
Длинное с хрящеватым носом лицо поляка презрительно поморщилось.
— Я не торгаш и в продажи не вступаю. Если пану нравится моя вещь — готов поставить ее на кон.
«Только до выигрыша и ни сдачей более», — предупредил себя Константин Дмитриевич, чувствуя привычный озноб, всегда находивший на него при виде зеленого сукна.
— Извольте. У вас штосс? Во что ставите монисто?
— Прежде, как принято у цивилизованных народов, представьтесь. Мое имя Тодобржецкий.
— Оленин.
Поляк подвинул серебряное украшение на середину стола и объявил его в пятьдесят рублей. Торговаться, чувствуя на спине взгляд Агафьи Ивановны, Константин Дмитриевич счел неприличным, хоть это было раз в пять дороже, чем могли стоить несколько монет, одна из которых, наполовину стертая или обломанная, в точности походила на ту, что превратилась в перстень на оленинском пальце.
Двое остальных игроков, по-видимому, не имевших таких денег, в партии не участвовали.
Понтировал Оленин. Он поставил на червовую даму. На третьем сбросе узкая, в золотых кольцах рука Тодобржецкого вынула и положила направо даму пик.
— Моя ясновельможна пани, моя крулева, — поклонился ей банкомет, забирая выигрыш. — Угодно пану метать самому?
Они поменялись. Поляк поставил на бубнового короля. Пиковый, брошенный Олениным, лег влево.
— То добрже, — улыбнулся в подкрученные усики Тодобржецкий.
Раздосадованный и раззадоренный, Константин Дмитриевич немедля повысил ставку, чтобы хватило отыграться и выручить монисто.
Десять минут спустя, проиграв все деньги из пачки, он сидел остолбенелый, слыша звон в ушах.
Поляк придвигал и пересчитывал бумажки. Монисто лежало на зеленой поверхности. На серебряной монете посверкивал солнечный луч, остальные монеты были черны и тусклы.
Растерянно обернувшись на Агафью Ивановну, Оленин увидел, что ее нет ни за столом, ни в зале.
— Куда вышла сидевшая со мною дама? — спросил он.
— Какая дама? Пан сидел за столом один, — холодно ответил поляк. — Угодно ль вам играть еще? Коли нет, я продолжу понтовать с этими господами.
— Я поставлю вот этот перстень! Против мониста! — воскликнул тогда Константин Дмитриевич, хватаясь за безымянный палец.
Кольцо было повернуто кверху словом NADA.
— На мелочь не играю, — был ответ.
Оглушенный, пошатываясь, Оленин направился к выходу. Проходя мимо горца, всё стоявшего неподвижно в ожидании платы, слегка задел его рукавом и не заметил этого.
Дикий человек отстранился, даже не повернув головы. Он смотрел на поляка.
У выхода Константина Дмитриевича окликнул спускавшийся из номера по лестнице Герасим.
— Неси вниз чемоданы. И ни о чем не спрашивай! — крикнул Оленин сердито, как если бы слуга был перед ним виноват.
Ногаец, которому давеча было заплачено десять рублей, еще не уехал. Он поил лошадь у колодца.
— Эй! — позвал Оленин. — Я передумал. Мы едем с тобою в Темрюк. Нынче же!
Такому как мне только и место, что в Темрюке, подумалось Константину Дмитриевичу без горечи, а с безразличием. Туда моей жизни и дорога. У кого конец — делу венец, а у меня Темрюк — жизни каюк. Не вышло TODO, получай NADA. И черт с тобой.
СОН АГАФЬИ ИВАНОВНЫ
В начале октября 186… года, в шестом часу пополудни, когда южное солнце еще высоко светило в небе, по скрипучей лестнице довольно дрянного трактира, который располагался на почтовом тракте из заштатного городка Т. в уездный городишко, начинавшийся на ту же букву — а впрочем что уж таинствовать, на дороге из Тамани в Темрюк, бодро стуча каблуками поднимался довольно красивый, хоть и несколько потрепанный господин в как бы военном, а в то же время статском сюртуке с гусарскими бранденбурами. Худое и узкое, немного лисье лицо светилось довольною улыбкой, нафабренные усики закручивались кверху наподобие торчащих из петушиного хвоста перьев; в одной руке бодрый господин