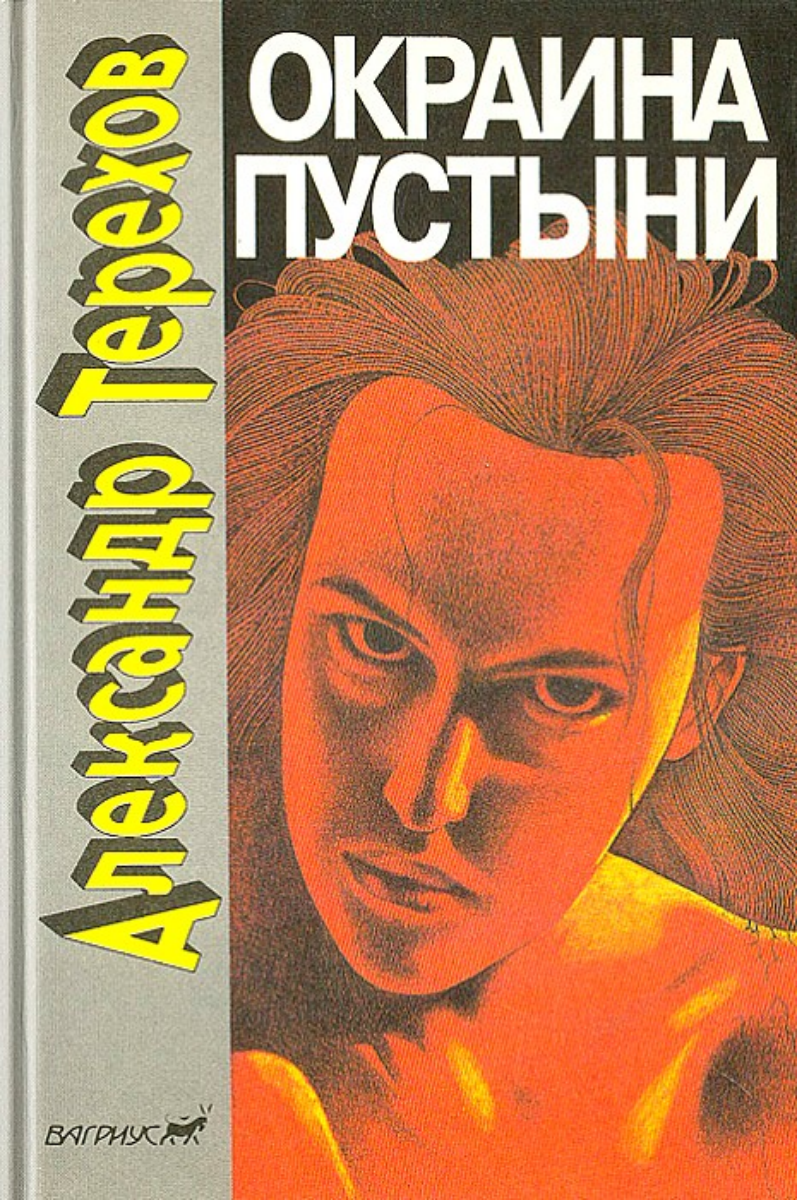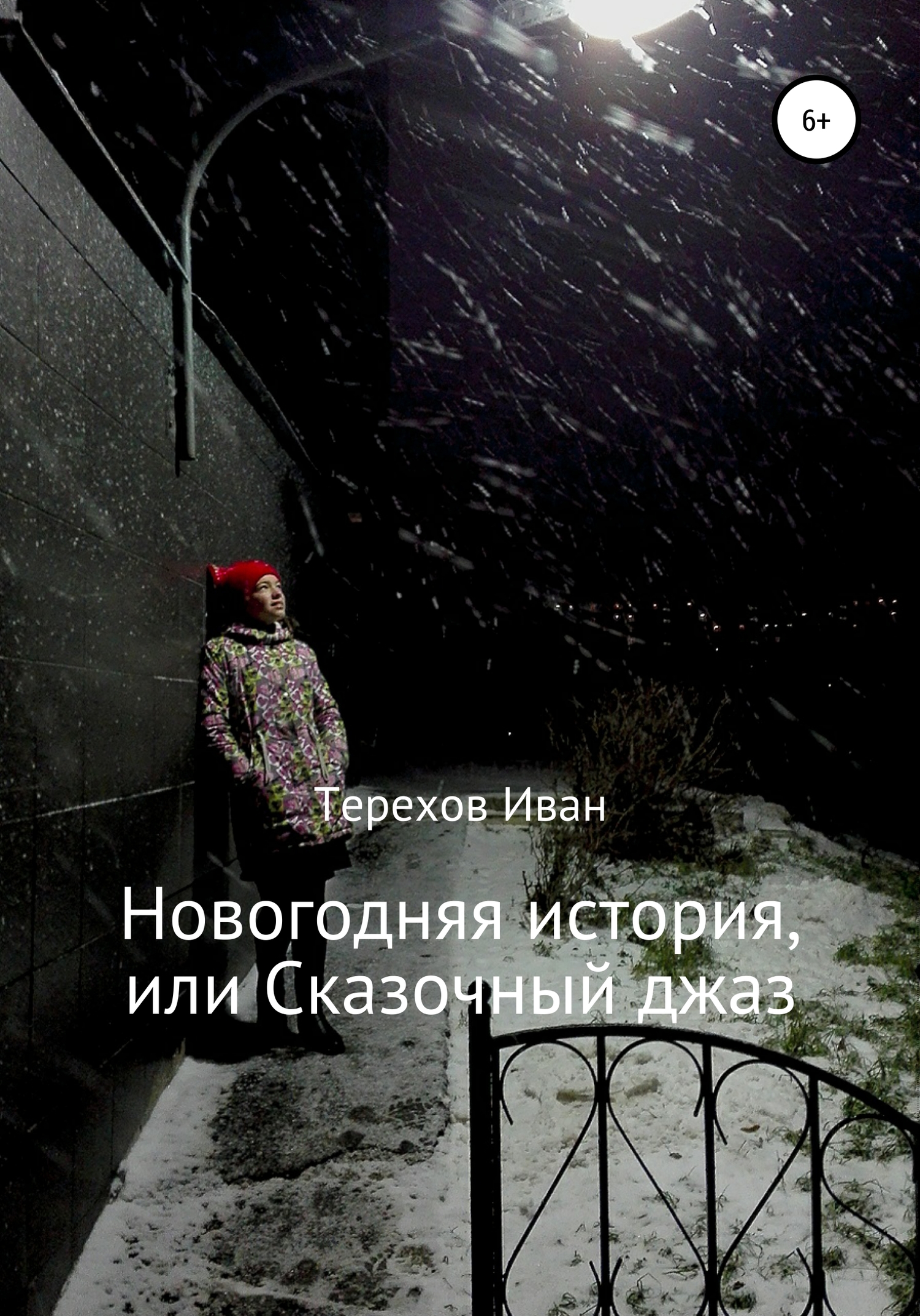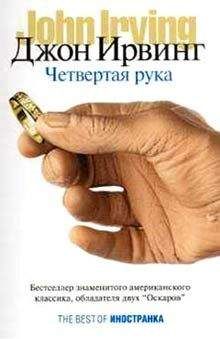вру, вру. Наоборот: хотела выручать, крикнуть, да они быстренько справились. За что?
— За глупость.
— Так умней. А то ведь не отстанут. Жизни не дадут.
— И не поумнею. И уже не отстанут.
— Ну чо ты сразу скис? Друзья у тебя есть, соберешь, дадите им… Может, и так отстанут. И чего тебе не поумнеть?
Грачев объяснил серьезно:
— Хоть что-то я должен оставить себе. Ведь не все же до конца… смерти. Хоть мне что-то можно? Надо кончик оставлять до последнего, за него можно все вытащить обратно. Но за этот кончик уже ничего не жалко, лишь бы он был.
— Ты про что? — не поняла, которая потоньше, пробила с натугой талончик, рассмотрела, нахмурясь, расположение дырок на талончике, заправила его в варежку белую, узорчатую и грустно вздохнула.
— Откуда вы? — другим голосом спросил Грачев.
— Белгород. Говори — «ты», что ты как…
— С мужем живешь?
— И с бабушкой. Ну прописались мы у бабушки, стоим на расширение. Она жена погибшего, чего-то там обещают, пока вместе.
— Нет детей?
— Подождем. Бабушка ведь не вечна.
— Понимаю. А ты?
— Работаю, взяла неполный день. свободный график, муж — в конторе.
— И как муж?
— Очень хорошо. Всегда на работе. Если не сразу взял телефон, — значит, читает газету. Если нет на месте — значит, обедает. А так всегда на работе, все очень хорошо.
— Мечтает накопить на машину, пьет пиво по субботам…
— Хватит, я тебе и так достаточно сказала, не лезь…
— Хорошо, красавица… А чего ты на троллейбусе?
— Потому что дура, в «Гименей» поехала глянуть, что есть. Встала в очередину, гляжу — ба-альшая такая очередина, въется, с четвертого прямо этажа, аж вниз. Кажется, час отстояла, все волновалась: по записи или нет. А это, оказывается, в туалет стоят. Дура! А долго ехать?
— Уже скоро, — Грачев поперхнулся и попросил, — давай, красавица, сойдем. Погуляем.
Она просветлела и согласилась мигом:
— Давай. А тут есть, где хлеб купить? Мне Олька сказала хлеба взять...
Они выбрались из троллейбуса, все было уже темней, холодней и бесполезно. Грачев мрачно интересовался:
— Олька… Это, это твоя подружка, да? — и опускал голову, скучал, ему уже не хотелось гулять и ждать.
— Ну как… На сессию вместе ездим сдавать, готовимся. Это как? Вроде подруга.
Троллейбус укатил дальше, холодно щелкая усами по проволоке. Грачев откровенно жалко огляделся — Аслана не было. Чеченец поехал сразу в общагу, и в этом освобождении было что-то обидное, но Грачев перебарывал это и радостно хмыкал и, повернувшись к девушке, осторожно тронул пальцем кончик ее носика:
— А тебя как зовут, кнопка-красавица?
— Ира.
— Ирка, а зачем тебе высшее образование, когда любой, кто тебя видит, знает наперед: эта красивая женщина лишь для того, чтоб ее любить и как можно скорей, и отдавать зарплату, и делать с ней совместно детей. И ни для чего больше. Тебе надо жить легко-легко, поняла? Ну пошли в твой хлебный, красавица.
— Я поняла, чего ты спросил за Ольку, — довольно тараторила она, поспешая следом, раскинув руки для устойчивости. — Нет, я конечно, не все в ней одобряю: вот то, что она так от мужа гуляет. Даже в Белгороде. Что негры ей нравятся, тряпки она очень любит, но ты не думай, она не проститутка, она добрая по-своему, знаешь, как поет!
В хлебном она закупила витые рогалики и батон, за баранками и сухарями стоять не захотела.
Они остановились еще у общаги, под снегом, у сотен окон на виду.
— Не хочешь идти? — слабо спросила Ирка, — ну, заяви на них в милицию, а чего? Чо в этом такого?
— В этом много всего. Это будет хуже для меня.
— Ну не ходи.
— Некуда больше.
— Это вам-то некуда? В Москве живете — кафе, музеи, театры, артисты выступают— до самой ночи разгуливай! Красная площадь, куда хочешь! Вы ж счастливые!
— Да. С этим да, Но у меня тут беда — крысы преследуют… Если иду вечером, — из бака мусорного — шур-шур-шур— лезет и через дорогу так… Бегом, перетекает. Трамвай вечером, едет, фарами светит — а там, бежит такая: серая, серенькая, торопится. В метро — из-под лавки. Сядешь на лавку — а она: прямо по ногам, Не дают мне жить. Покоя не дают… Все чего-то хотят от меня.
— Так это со всеми же! — Она схватила его за руки. — И со мной так же! Получается, и меня, что ли, преследуют? Глупости какие. Вот только вчера, встала утром…
— Уходи, ладно…
— Если тебе туда совсем нельзя —к нам приходи. Олька… может, вечером куда пойдет. Я чаем напою. У нас там еще что-то может остаться. Все равно приходи, хоть поговорим, просто так. Экзамен у нас только послезавтра.
Грачев тряс головой: да, да, да. Ему казалось, будто тряслась вся общага. :
Он еще постоял внизу один: снег редел, совсем зачах и перестал; раньше времени, добавив серости, зацвели чахоточные фонари цепочкой, и холодной, желтой водой наполнились окна соседних домов и общаги, перечеркиваемые качающимися тенями, ветер силился, леденел — стало просто невозможно стоять, и Грачеву пришлось пойти.
Лифты увезли наверх людей и не спешили возвращаться.
Вахтерши собрались кругом над черным дипломатом, хмуро, как у гроба покойного товарища, — Грачев стал к ним поближе, скорбно соединив руки, словно на гражданской панихиде.
— Час уже нету! — ныла косая вахтерша с черной пацанячьей головкой. — А говорил : сейчас-сейчас. Сказал : документ забыл. За пропуском пройду и — назад. А этот портфель оставляю в залог, вернусь. Гарантия, двести процентов. Вот скока было, он ушел, без десяти, и сейчас скока там, ой, отсвечивает, сколько? — ну без восьми — уже час прошел, больше? И нету.
— Зачем брала, Холопова? А вдруг бомба? Подорвется, и кранты? — кряхтела седая бабища в толстом, похожем на блин платке и даже подняла зад и отбежала к стене.
— Да ну тебя, — махнула на нее другая бабулька. — Не петришь, так и не болтай! Тогда б тикало. Тики-тики. Ну раскрывай, Холопова, — так и будем, что ли, до утра ждать? Ищи его теперь, обормота. Да он и не вернется небось, пустой тебе и сунул, вернется он, ага, размечталась, — и ожидающе, недобро