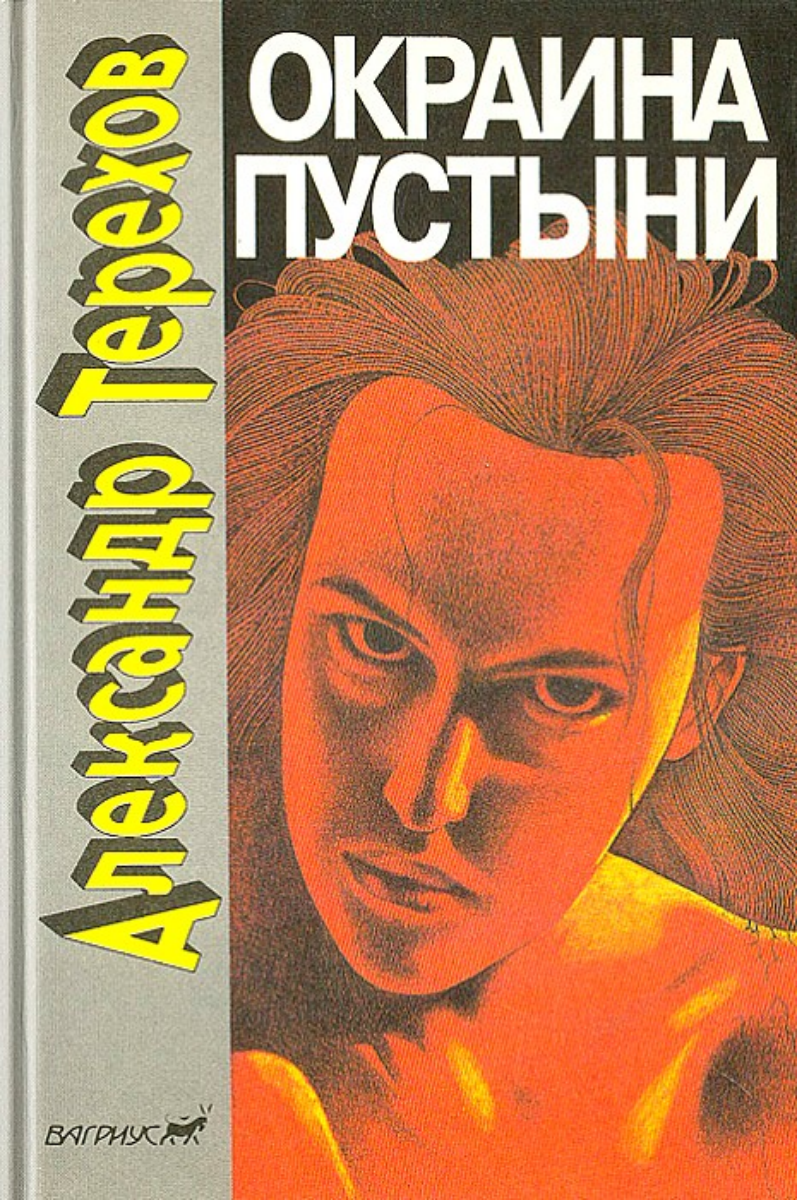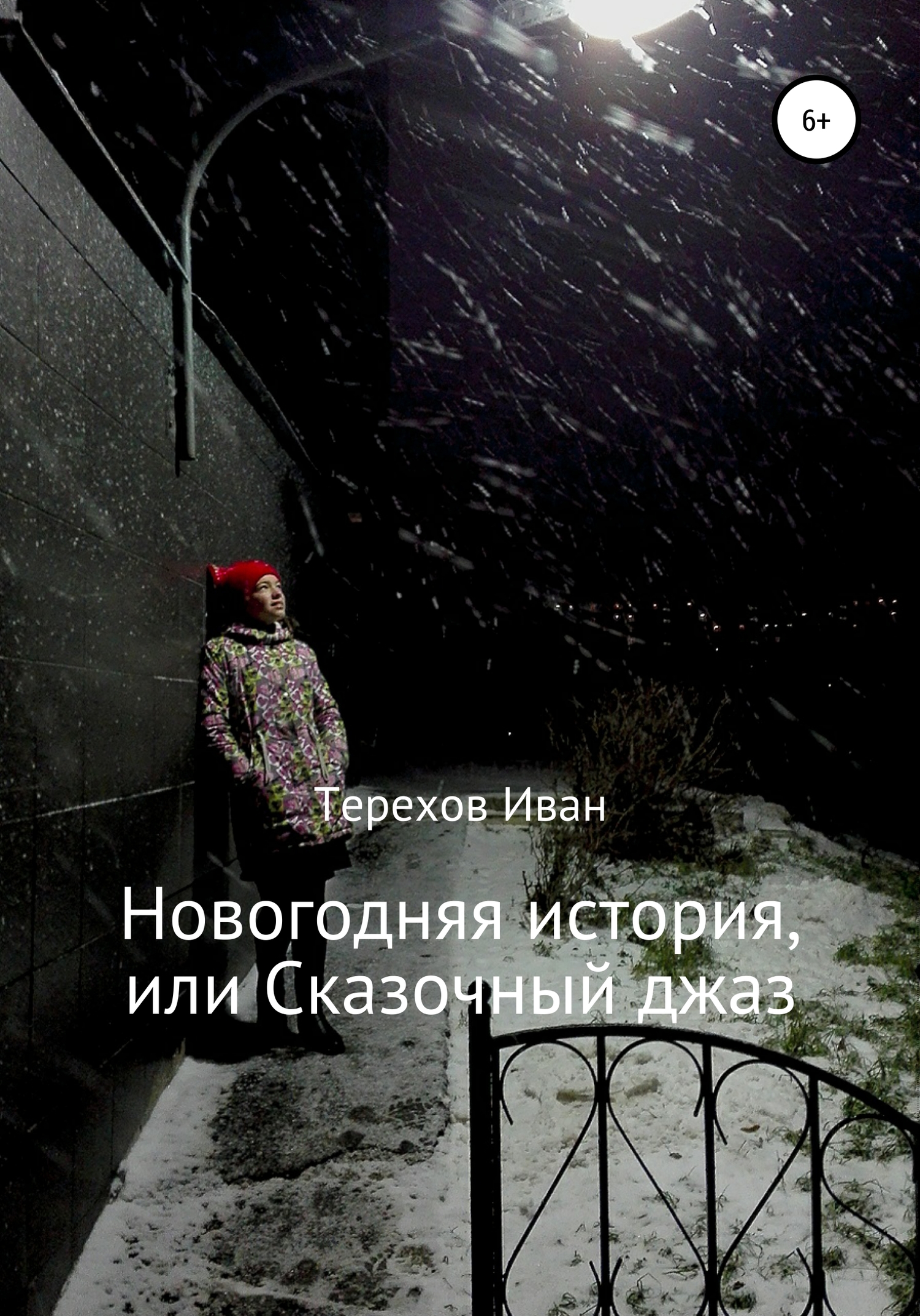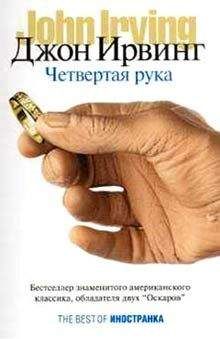покосилась на Грачева — тот принялся читать поверх всех инструкцию пожарному наряду: номер первый расчета…
Косая повернулась лицом в угол, чтобы поймать глазом Грачева.
— А у тебя-то пропуск есть? Стоишь тут… — пискнула она подозрительно и рот оставила открытым. будто пропуск должны были положить в него.
— Это наш, —толкнула ее под локоть толстая в платке. — У меня уже все эти морды… В памяти навечно. Ну открывай давай, раз такие дела, чего теперь выжидать, высиживать...
У лифтов заклубилось шевеление, началась перегруппировка, знаменовавшая возвращение блудных кабин, и Грачев переместился туда, в гущу событий, — он уже согревался, расслаблялся, а вахтерши засунули согласно три головы в беззубую пасть дипломата, погрузив туда же немедленно и ручищи.
— Книжки… Скока тут. Да нерусское все. По-каковски это? Еврей он, что ли? А фамилия, как у грека, все на «ос». А эти книжки — про белых голубей, погля-ань, ах, прелесть птица, как люблю, прям невозможно…
— Не там глядите, ну вон, в кармашках, там паспорт или что… Двести процентов! Нашла? Что? Фотокарточка? Дак это вроде и не он. Ага-га-га, подписано, вон оно как: «На крепкую память от незабвенного брата Саши. Счастливого пути». Брат это его. Старший, наверное. Ишь какой лобина. Компьютер. Двести процентов! И ведь скока книг понабил! Как только носит. Как порядочный. Должен вернуться, такой вернется, не оторва какой… Или аспирант? А мы влезли… Чего там, в книжке записной? Инциалов нету?
— Из магазина «Ганг» блокнотик. Просим посетить священную Индию. Только стишок какой-то записан. Ведь грамотный. Вообще поэт, может быть.
— Ох, господи боже ты мой, закроем, что ли, скорей? Разорется щас, если застанет, развоняется. Двести процентов!
— Не боись, Холопова. Обманул он тебя? Обманул. Ты его обождала? Обождала. Нет? Нет. Ты должна принять меры к установлению личности; мало ли, кто это. И никаких. Ну, зачти стишок.
— Читаю: «Мой друг, коль хочешь жить кудряво и ввысь над Родиной взлететь, ты обходи, не будь раззявой, хворобу, стариков и смерть!»
— Ой, очень верно, не убирай, я спишу потом. Так душевно. Деду моему понравится, он же летал. Ввысь над Роднной! Одним словом: держитесь, ветераны. Берегите свое здоровьице. Давайте, девки, закрывать, а то не приведя господь, хлебнем досыта, ежели вернется. Может, даже и не русский.
— Закрывай живей, Холопова, не терпится все тебе, час да час, тут пока вверх-вниз подымешься, скока время надо, ну задержался просто парень, такой разве к девке пойдет? Ты глянь, сколько книг, такому разве гулять? Обожди, что тут-то, вон у стеночки, в журнал обернуто… А, так-так, вот она! Ах, ты!
— Что тама?
— А водочка. Пол-литра! Сосун вонючий, а туда же, как совести хватило, пропуск он забыл, такие головы позабыть готовы, лишь бы выжрать, с кем попало…
— А все «извините» да «простите», а я в глазенки его сразу глянула, так и решила: мразь он, да и все тут. Порядочный разве такую вещь на чужого человека оставит?
— Это он точно за девкой побег. Двести процентов! Она ему пропуск у знакомого сыщет, он и вернется за своей бесценной, коблище такой, морда отъевшаяся. Такой, небось, не работает. Только по шлюхам нашим, прости меня, господи, грешницу, бегать.
— Холопова, ты чего ждешь? Вызывай оперотряд, надо засаду, и возьмем.
— Ах, паразит. Поматросить его и отбросить.
— Доверяй, но проверяй!
Раззявились сразу три лифта. Грачев зашел в последний.
— А ну. А ну, а ну, ждите! Оп! — Лифт плавающе колыхнулся, и двери, просвистав, сомкнулись. — Как, Грачев, отучился?
От администратора Веры Александровны в лифте накалялось все, она хохотала беспорядочно и громко и жаловалась, подрагивая мясистыми щеками:
— Денек, ох, ну ты понимаешь сам. Утром — тараканы. И крысы твои. День — белье сдавала, вообще свихнешься скоро с этой прачечной. Все по счету надо, все по счету. Еще Салих этот ходит и ходит, достал уже совсем: магнитофон его куда-то уплыл. А я что? Камера хранения? Сейф несгораемый? Изнасиловал уже. Почти, мать моя родная, женщина, так, какой там? Шестой? Товарищи, вот тут мы выйдем с молодым человеком, выходим-м-м…
— Отучился? — Лицо ее жарко плыло, и она прыскала, втихую прижимая его к стене. — Отдохнул ты? И сил набрался? Да? Ведь да? Ну только не будь таким. Я хочу, чтобы сегодня ты был совсем другой, другой, — и ткнулась в него с мягкою, властною силой, стиснула зубы и выдохнула, — О-ох, — и сразу отпрянула назад, дальше, в угол, приглашая, надеясь, зовя к себе. — Студент, это вы что себе позволяете? Нак вы себя ведете, студент? А? Я вот маме вашей напишу. Как же не совестно вам, распротуды вашу мать? Ох, господи. — И она визгливо расхохоталась, дробно, а потом пожаловалась еле слышно, сквозь спрятавшие лицо руки, — это ты меня сделал такой. Своими разговорами. Если б ты меня не трогал; если бы ты меня не подобрал, если бы ты мне про меня не рассказывал — я бы, может, при корнях бы и осталась, среди людей бы жила себе и жила, крепко бы стояла… Я бы крепко стояла, я бы себя ценила. А теперь все, не могу, как последняя… Сама понимаю, вижу! И стыдно, да не могу! Деньки мои ведь уходят, все скорей деньки мои уходят, не могу так, хочу, хочу, я хочу еще, мне надо, а я уже такая старая, а сколько времени ушло, а ничего почти не осталось, я хочу, хоть немного, мне немного, ну ладно, так. Ну ладно. Мне тут надо еще на восьмой, по делу, понял? Ты не думай, нос не задирай. Я тебя не специально встречала. И не думала. Приходи к ночи ближе, когда ключи от читалок сдадут. Как всегда, короче, чего я тебе объясняю… Хотя, может, забыл? Давно ведь не был, ах, как давно…
И она побежала почти на восьмой — ноги ее поскользили по лестнице, как щедрый солнечный луч, темнеющий в подоле, и она все-таки не вы держала и жалко, стонуще вскрикнула:
— Да хоть придешь ты сегодня, а? Ну не молчи ты, камень! Я ведь по-боевому настроена. У меня огромные планы на сегодня!
Грачев кивнул и сипло подтвердил:
— У меня тоже. Она всхлипнула, помахала рукой и побежала наверх, шаги ее отдавались на лестнице, как капель среди зимы.
Он вступил в коридор и остановился. Руки его