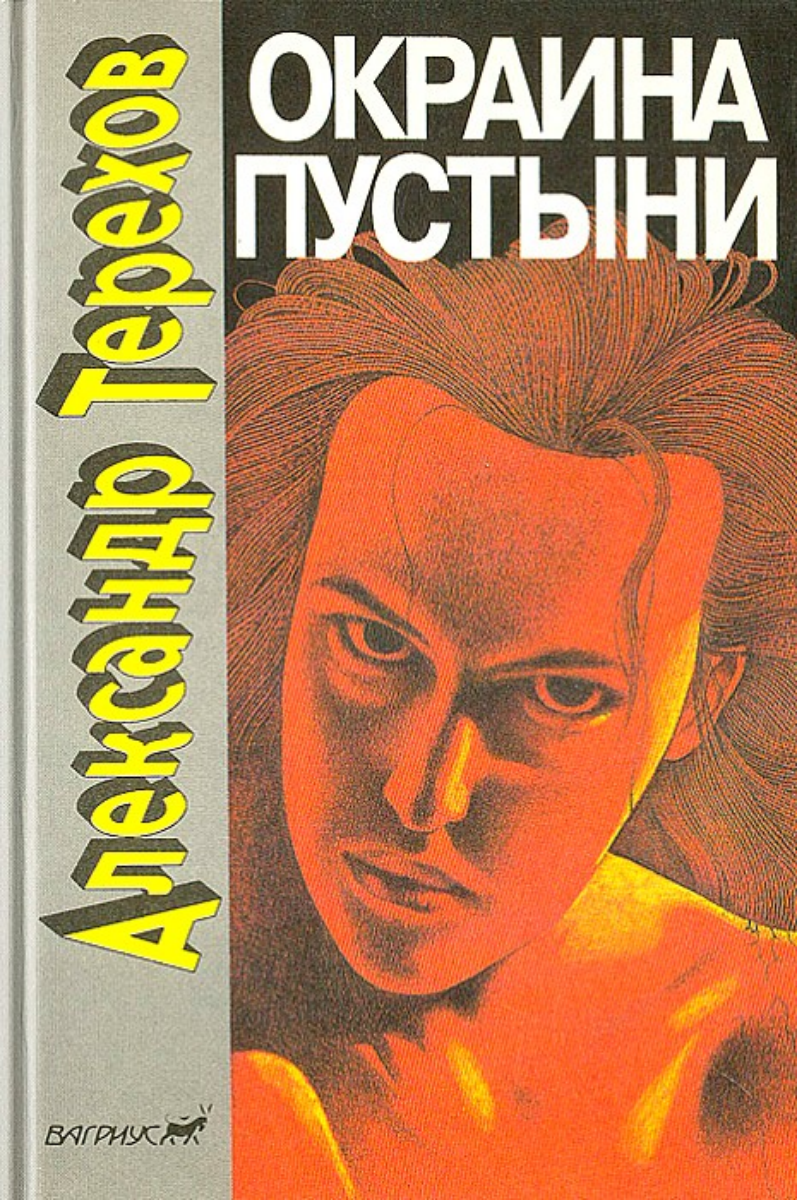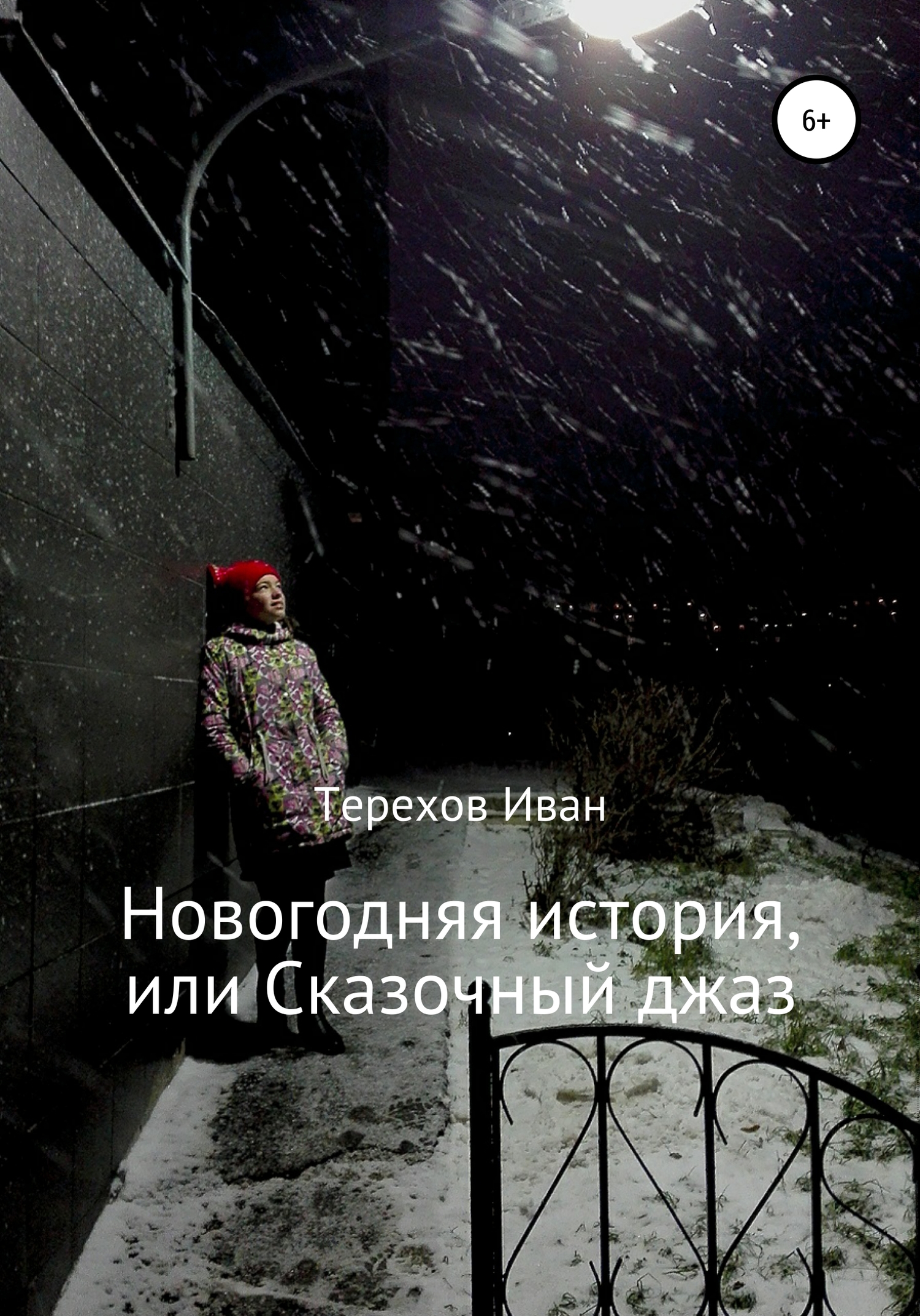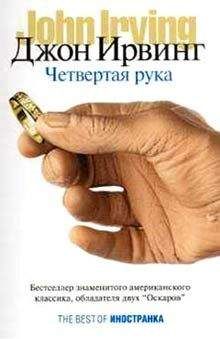повисли без дела.
Коридор был пуст до его двери — насквозь.
Он покорно прошелся еще вперед, за комнатенку мусоропровода и телехолл, и опять передохнул, ожидая, сдавшись.
Никто не дернулся, никто не шаркнул, никто не шепнул, никого.
И он резкими, подневольно свободными шагами ворвался в коридор, и перед ним, как маяк, трясся и рос кровяной плевок огнетушителя на стене у его двери. Он сломал, задавил свое презренное тело и заставил последние, явно уже спасительные шаги до комнаты почти ползти — лениво, вразвалку, рассёянно.
Коридор остался свободным.
Хотя это ничего не значило. Они могли ждать и в комнате. И теперь коридор был уже землей родной, и добрая старуха-зима за стеклом аварийного выхода уже утешала обещанием хвои и металлическим пламенем елочных украшений, прорастающим сквозь тяжесть и муть позднего послепраздничного пробуждения, и не пугала смертной дрожью паршивых собак и властью последнего глотка стужи внутри павших птичьих тел.
Грачев отпер дверь с пронзительным скрежетом. Распахнул. Нет. Он помедлил и заглянул в ванную. Наступил на хмельно заплетающегося по полу таракана и деревянной рукой отдернул клеенку, прячущую ванну. У ванны было ржавое, рыжеватое слоями дно.
Он торопливо вышел в комнату, бросил сумку на кровать, сильно смял руками подушку, ударил в нее кулаком. Скинул куртку, шапку — развесил их в коридорчике, размеренно двигаясь и поворачиваясь.
Посетил половину Шелковникова. Тот спал, угнетенный учебой. И Грачев на цыпочках вышел.
Закрыл на надежные два оборота дверь. Скинул сапоги, повесил на стул пиджак и прилег ничком на кровать. Чтобы очень проголодаться, надо хорошо поспать.
Чтобы заснуть, надо сначала лежать на животе. Потом четко — на правом боку и всей массой. И в заключение — на спине с легким, чуть обозначенным, левым креном — на сердце чуть-чуть.
Часы стригли ножницами жизнь, и это мешало. Грачев расстегнул ремешок, добавил часам завода, выдвинул из-под стола стул и, закрывая глаза, опустил часы на стул, от себя, подальше, не слышать.
Часы легли неровно. Странно выгнулись. Он поправил их лучше, уложил, теребил и коснулся пальцами мясной, холодной упругости под короткой щекочущей шерсткой.
На стуле, свесив толстый дохлый хвост, лежала крыса.
Грачев выронил часы.
Потом переполз в угол кровати. Немного посидел, глядя в сторону.
Встал, в носках подошел к двери, близко, вплотную. Кругом стало тесно, и руки его полезли по двери, по одежде, скользкой и чужой. Он схватил шапку н заткнул ею короткий, животный вопль. Посмотрел в нее, будто там должно что-то остаться после. Выронил шапку. И, крадучись, разбежавшись, ударил ногой, задохнувшись яростью и болью, стул и зверино отпрыгнул сильно к двери, толкнулся в нее и осел на колени, сжав пальцами разламывающуюся ступню и раскачиваясь, утопая в коричневой духоте, лизавшей и отпускавшей лицо, грудь, живот, зудевшей в ногах и плавившей ступню, которая разбухала кровяными ударами вздыбившегося тела.
Он еще оглянулся. Стул от удара врезался под стол, вскинувшись на задние ножки, — а что-то серенькое, седоватое, пушисто-плесневое съехало совсем назад и упало бы, вывалилось бы, да зацепилось окоченевшей лапкой за спинку, свесив пыльный хвост и все толстое, что за ним, что за ним.
Больше не оглядывался. Он стал ходить спиной вперед. Спиной вперед прошел к Шелковникову. Тот спал и спал. Грачев захотел позвать его, разбудить, но не смог вызвать из себя даже шепот. Ои вернулся к дверям, пробовал говорить, но шипел:
— А, а-ааа, аз-аа, аааа…
И он увлекся уже, и стал покачиваться в такт, поворачивать и отпускать дверную ручку, и она поскрипывала в такт его шипенью, и наступало такое время, когда темнеет разом, будто сваливается занавес, и сразу мало что видно, особенно под крышей, и он опустился на колени, стукнувшись головой о дверь, и разводил руками. раздирал и распутывал сумерки вокруг себя, теснившиеся, густевшие жарким и липким колоколом, он мучил голову поворотами, теряя в кружении все, отлепляя лицо от глухих клейких стенок, и только пробовал речь, будто пел:
— Ааааа, аааа, ааа….
И моргал глазами, раскаленными, как сухие камешки у костра, и задыхался.
Он придумал еще спрятаться в ванной — включить там свет и даже, может, полезть в воду, в воду залезть, и встал, охнув от боли, так больно сразу, но тут звучным хрустом просел мусор за шкафом — не все! — опять — наступало время их, а может, оно и кончалось, и наступало время агонии, убивавшее не только убитых, когда все равно хочется увидеть мир свысока, весь, хоть со стула, умирая, — и он бешеными, нечеловеческими руками отпер дверь и выбрался, вырвался в полутьму коридора, а там дуло по ногам, низко, и он передернулся и еще раз, оперся на стекло : темные комки людей топтали белую тошноту зимы, пересекали желтые лужи света, не поднимая головы, гнали от себя понурых бесшумных собак, деревья теснились к домам грудами черных костей, и мрачно звали смоляные подъезды, но там же есть батареи — у них можно согреться, но можно согреться и без этого, здесь: надо только походить, размять — стынут ноги на голом полу, он обернулся — а к нему уже шли.
— Вот. Легок на помине! — празднично сказал Хруль. — Как ждал. Чего в носках? Закаляешься спортом?
Грачев убирал и убирал что-то пальцами с лица, с шеи, груди, перехватывал уже готовые что-то шептать жалкое и пустое губы, но голова его блуждала: пол линолеум темный светлее узор пыль огнетушитель Аслан кнопка сигнализации еще черные фигуры стекло ночь зима трамвай Хруль киоск потолок плафон дрожь вечер вдох течение крови конец коридора время выдох его дверь номер 422 плинтус пол линолеум вниз…
— Пошли так, — сказал незнакомый и смуглый, — Поговорим.
Они потом втолкнули его в комнатку, где отвесил железную губищу мусоропровод над россыпями объедков и отбросов и дырявыми урнами.
Грачев пришел за ними, как привязанный, как шарик воздушный, шатаясь и послушно. У порога он еще забылся и стал поворачивать туда и сюда, и тогда его просто втолкнули, вправили в нужное русло, а он не стал приближаться к стене, он расположился посреди, зябко растирая плечи и поджимая постепенно, справедливо пальцы на ногах — погреть, как коготки — ступня болела уже много меньше, и здесь было как-то теплей и суше, а где-то за стеной шелестели лифты и говорили люди, которые ехали на свои этажи.
А они не закрыли даже дверь. не прятались, и оттуда был свет, и Грачев смотрел только туда, только, теряясь,