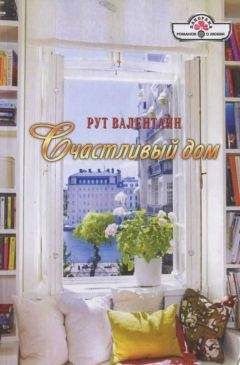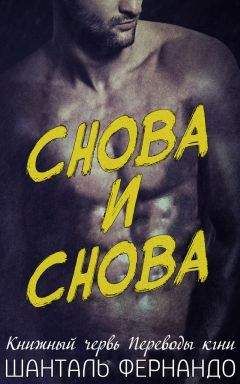class="p1">В доме, снятом сестрой, мы отпраздновали Новый год. Пили шампанское. Там был бассейн, но моя мать смотрела на него издали.
Она чувствовала себя слишком слабой, и медсестра еще ходила за ней. Она спросила меня, как было в Нью-Йорке. Хорошо, сказала я.
Должно быть, там хорошо, и я рада, что ты преподаешь в университете, это ты-то, которая никогда не училась. Ты довольна? Не знаю. Ты же продолжишь преподавать?
Не знаю. Не знаешь? Не знаешь. Ты ничего не знаешь.
А твои ученики, квартира, какая она? Хорошая.
С длинным коридором. Ты любишь длинные коридоры, ты всегда их вставляешь в свои фильмы. Да, в конце коридора две спальни, одна побольше, другая поменьше. С левой стороны две двери, одна ведет на кухню, другая в ванную, выкрашенную в светло-синий цвет, с окном.
В кухне всё есть.
Холодильник.
Газовая плита с духовкой.
Микроволновка.
Большая раковина. Посудомоечная машина.
Стиральная машина.
С другой стороны коридора два других входа без дверей.
Напротив кухни столовая.
С черным столом. Шесть черных стульев. Черный буфет.
Мать сказала, хорошо иметь стиральную машину и микроволновку. Да. Хорошо. Но почему вся мебель черная?
У тебя хотя бы есть уборщица? Приходит время от времени, но она говорит по-испански. Нужно, чтобы она приходила убираться хотя бы раз в неделю. Особенно у тебя. Да.
Поначалу я была в странном состоянии, или, может быть, это было мое обычное состояние. Я была готова ко всему, давать и даже получать. После она продолжала давать, но я этого не видела, разве что временами.
Я больше ничего не хотела давать, только некрасивую кушетку, самую дешевую, какие только были на нашей улице. Stingy, скупая, написала она мне месяцы спустя. Да или нет. Вероятно, да, это моя единственная защита.
Это я сейчас так говорю. Ищу оправдания.
Но я вела войну, войну исподтишка, холодную войну. Не должна была.
Даже теперь я не могу представить, что я должна была или могла делать. Если бы всё началось сначала, я бы, вероятно, сделала то же самое, но иначе.
Мимо кушетки я несколько раз прошла на улице. Она стояла на тротуаре перед витриной. Я даже посидела на ней. Она мне нравилась; чем больше я мимо нее проходила, тем больше нравилась.
В конце концов я сказала, пойдем посмотрим на кушетку. Я сказала, магазин ужасный с ужасной мебелью, но в этой кушетке что-то есть, не знаю, неплохая кушетка, не находишь?
Ее маленькие карие глаза смотрели по сторонам, в конце концов остановились на кушетке. Да, она тоже считала, что она очень даже ничего.
Мы ее купили.
Ее привезли.
Мы поставили ее в пустой комнате.
Мы были довольны.
Кушетка нравилась нам обеим.
А потом она заказала кучу вещей.
Всей этой кучей вещей мы окружили кушетку, вероятно, чтобы ее было меньше заметно.
В супермаркете, где ее приняли за мою дочь, не было кускового сахара. А я пила кофе только с ним. Брала кусок в зубы и так пила кофе. Мне кажется, мои три тетушки в свое время должны были так делать.
Однажды в дверь позвонили, это был день, когда я услышала звонок.
Я встала, пошла открывать.
Там был курьер с маленьким пакетом.
Я открыла его с фальшивым воодушевлением.
Это был кусковой сахар.
Он еще был там, когда я вернулась, а ее уже не было, и я была очень довольна. Я люблю пить кофе с кусковым сахаром, положив его на язык или держа в зубах.
Я так пью кофе. Не кладу сахар в него.
Еще там были орехи в шоколаде, в порошке, из которого делают горячий шоколад, она любила сладкое.
А сегодня в Париже я увидела десерты «Данон» с молочным рисом и греческий сыр. Надо было мне их купить.
Всё это я покупала раньше, а также карамельные фланы, мы передавали их друг другу изо рта в рот.
Вначале это был катаклизм с ожогом и экзальтацией.
Слова, всё время одни и те же, без конца повторявшиеся, я узнала любовные слова древнего языка.
Я так много говорила. А не должна была.
Да, я снова ожила.
Перестала представлять, как моя мать умирает.
Перестала не жить.
Во мне была жизнь.
Целая жизнь.
Полная жизнь.
Моя мать вздыхает. По утрам мне плохо, хуже всего. После я как-то расхожусь, тебе не кажется? Во время тропического завтрака она сидит с закрытыми глазами. Открывает их, когда я заговариваю. Как только замолкаю – закрывает снова. Скажи что-нибудь. Ты же можешь что-нибудь сказать.
Что? Чего ты хочешь, что делаешь, расскажи. Что угодно.
Да. Я попробую. Но ничего, абсолютно ничего не приходит в голову. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Что угодно.
Расскажи мне о твоих студентах в Нью-Йорке. О, только не это. Не о чем рассказывать. Я преподаю три часа в неделю, вот и всё. У меня четырнадцать студентов.
Они из разных концов мира. Всё.
Я долго ищу что-нибудь, о чем рассказать из прошедшего года, который был ужасен. Почти всё время. Крики, бесконечное молчание, удары, бессонницы, поносы, мыши, служба по уничтожению мышей, падения, растяжения ног, разбитые коленки, холодный пот, горячий пот. Обо всем этом я в любом случае рассказывать не собираюсь. Как и об остальном.
Ни о кофе в постель. Пасте в постель. Чае с ромашкой. Сдержанных поцелуях. Ни о холоде, ни о жаре, ни об этом странном климате. Ни об утрах с собакой. Впрочем, мать любит только маленьких собак, собака С. ей бы не понравилась. Она бы не стала ее жалеть, когда было холодно, а в Нью-Йорке было холодно, и собака лаяла.
По утрам на магистрали ФДР и на берегу реки было холодно.
Ветер дул со скоростью сотни километров в час, меньше, может быть, но всё равно очень сильно.
Собака дрожала. Мы тоже.
Она лаяла, завидев другую собаку. Почему?
Вероятно, от страха. И было невозможно заставить ее перестать.
По вечерам часто мы даже не ходили к заливу. Ходили к полоске земли посреди Бродвея, это было ближе. Но там с обеих сторон ездили машины, и нищие сидели часами. Мы проходили с собакой сотню шагов, пока она не приседала с достоинством и не делала свое дело. После этого мы быстро возвращались.
Порой это длилось очень долго, она была такая медлительная. Хотелось ее поторопить, но у нее был