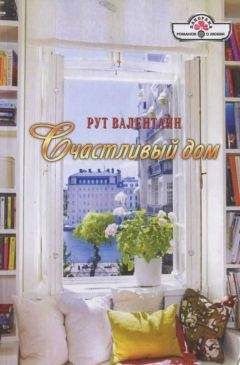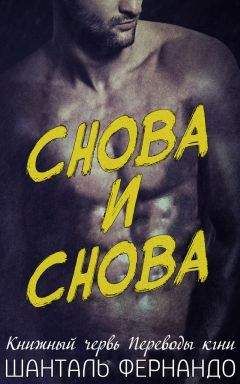свой ритм, она приседала, когда наступало время, ее время. Ей нужно было долго ходить туда-сюда по этому клочку земли со скамейками и нищими, которые там сидели.
Иногда ничего не получалось, она не хотела садиться.
Это твое время, говорили мы ей, больше мы выходить не будем, но ей было плевать.
И если она кого-то вдруг замечала вдалеке, другую собаку, она лаяла. Перестань. Но она всё равно лаяла. Иногда это меня раздражало, иногда я ее не трогала. Говорила себе, ей нужно полаять.
Особенно когда приходилось каждый раз надевать на нее ошейник, выходя из квартиры. А надевать на нее намордник было мучительно. Но сосед-азиат всегда был начеку. Видимо, он был на нервах из-за новорожденного ребенка и депрессии жены. Несколько недель спустя я встретила его на улице и спросила, теперь всё в порядке? Да, он больше не слышал собаку, но на потолке его ванной были подтеки воды, должно быть, я забыла, и вода перелилась через край ванны. Я сказала, что нет. Но это была правда.
Спустя несколько недель мы решили больше не надевать намордник, сказали себе, она должна была уже привыкнуть к новой обстановке. Тогда мы выходили из квартиры, закрывали дверь и прислушивались. Было тихо, она делала несколько шагов, потом, скорее всего, укладывалась на кровати. Мы испытывали чувство облегчения. Одной проблемой меньше.
К счастью для нее, мы уходили нечасто и ненадолго. Доходили до супермаркета или мексиканского ресторана на углу, где были только мы и огромный телевизор, оравший очень громко, и где мы могли говорить об этом невыносимом шуме. Я даже попыталась заговорить об этом с официанткой, не знавшей ни слова по-английски.
Я заткнула уши, чтобы показать ей, покрутила двумя пальцами, показывая, что надо сделать потише, она сделала немного, но недостаточно. Иногда там сидел усталый мужчина, который пил пиво в баре, ему, вероятно, нужен был шум. Видимо, ему он нравился. А потом ресторан неожиданно закрылся.
Жаль. Мне нравился этот ресторан, это был ресторан на углу. Я всегда любила рестораны на углу: в Париже, в Брюсселе, в Гарлеме, везде.
В Мехико не было ресторана на углу, и табачного и газетного киоска тоже не было. Всё было далеко. Нужно было ехать на машине, а я не водила. Я говорила С., ты научишься водить, и мы объездим всю Америку. Она была не против, но так и не научилась.
Рядом с рестораном на углу была паршивая лавчонка, в которой я покупала сигареты, там я торговалась, кто-то мне сказал, что нужно торговаться, и я торговалась, и цена опускалась всё ниже и ниже.
Сигареты были где-то спрятаны, и хозяин посылал за ними племянника. Кричал, Элиас! Мои сигареты назывались Yellow. Хозяин всячески давал понять, что он считает эти сигареты, ну, скажем, не совсем легальными. Я спрашивала себя, где он мог их найти, но это оставалось загадкой.
Естественно, в эту лавку нельзя было входить с собакой, я оставляла ее на поводке, оттягивавшем мне руку. Потом я увидела в лавке собаку и вошла со своей, и хозяин, который вешал суры слева на деревянной дощечке, ничего мне не сказал. Но я знала, что люди с сурами считают собак нечистыми.
Нет, ничего, что можно было рассказать матери, у меня не было.
Я искала, но не находила. Тогда я сказала, что не люблю Нью-Йорк, даже если зимой там голубое небо. Ты больше не любишь Нью-Йорк, но ты же его всегда обожала. Кроме того, теперь Нью-Йорк изменился, или я изменилась. Может быть, я больше не подхожу для Нью-Йорка. Мать сказала, я была там всего раз, мы приехали на машине из Канады. С папой и с твоими дядей и тетей.
Когда мы проезжали Гарлем, твой дядя закрыл в машине окна. Он сказал, что Гарлем очень опасен для белых. А ты теперь там живешь. Всё не так, как раньше, мама, теперь он совершенно не опасен. И когда я приезжаю со своими чемоданами, кто-нибудь из жителей дома всегда мне помогает, и он или она иногда говорят, я делаю это не для вас, а для Бога. Я улыбаюсь и говорю, но и для меня тоже.
Они такие верующие? Не знаю, но у меня впечатление, что в моем доме да.
Я не то чтобы верующая, но немного верующая. Я чувствую, что там наверху что-то есть, но не знаю что. Иногда задаю себе вопросы. А ты? Я нет. Но я хотела бы быть верующей.
Может быть, тогда я бы почувствовала покой.
Да, мой отец чувствовал покой, он был глубоко верующим. Он был замечательный и очень мягкий, вероятно, из-за своей веры, но всё равно погиб вместе с остальными.
Так жаль его и очень грустно. Как бы я хотела, чтобы ты знала его и бабушку. Они были такие разные, но они так хорошо ладили, это был брак по договоренности, но они ладили лучше, чем кто бы то ни было. У них хотя бы это было: годы взаимопонимания до того, как они погибли.
У него был великолепный голос, а у нее – руки волшебницы, и видела бы ты, как она рисовала. Они в сущности оба были художниками, это у тебя от них.
После я ненадолго вернулась в Париж и в Брюссель. С фингалом под глазом и в солнечных очках.
Без тонального крема, потому что не умела его накладывать.
Я видела, что на меня смотрят на границе.
Тогда я прикрыла нос пальцем.
Я вернулась к себе, в свою квартиру, в гостиной которой был ковер, поддельный восточный ковер, который я купила у торговца, как будто он был настоящий, и очень дорого заплатила за этот поддельный восточный ковер, но мне было всё равно, я хотела этот ковер и всё.
Я до сих пор довольна, что купила этот ковер, и он был красивый, хоть и поддельный. Я смотрю на него и говорю себе, мне нравится этот ковер. Я очень редко что-то покупаю, а когда куплю, то довольна, пусть ковер и поддельный.
В Париже я почувствовала себя одинокой. Никто меня не слушал, не вглядывался в меня.
Одинокой, но мне было хорошо.
Никто меня не спрашивал, почему ты не спишь.
Никто не подслушивал мои телефонные разговоры.
Никто в меня не вглядывался и вообще не смотрел на меня.
Тем не менее я говорила себе, нужно помнить, что порой мы бывали счастливы. И что