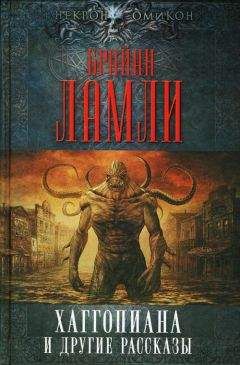никогда не случалось, чтобы профессор так основательно замолкал. Казалось, он моментально потерял интерес к человеку, с которым только что познакомился.
Он думал о тех людях, которые сейчас из своих окон и из дверей коноб украдкой наблюдают за тем, как они прогуливаются с высшим местным религиозным авторитетом. С их великим жрецом. Это новое обстоятельство казалось ему занятным. Занятным настолько, что он забыл о необходимости хотя бы из приличия поддерживать разговор с этим человеком.
В центре широкой и мрачной комнаты для приема гостей, которую дон Антун почему-то назвал залом, словно речь идет о помещении для занятий гимнастикой, размерами и оформлением которой, как им показалось, он очень гордился, стоял длинный черный стол и вокруг него двенадцать тяжелых стульев с резными спинками.
Дон Антун сел во главе стола, поместив рядом инвалидное кресло мальчика.
– Ты у меня сегодня самый важный гость, – сказал он, – мы, старшие, все забудем, а ты будешь помнить.
Должно быть, хотел к нему подольститься. Но в результате Давид только испугался. Смотрел на него искоса, не говорил ни слова. Наклонил набок голову, уголки рта у него опустились, как бывало всегда, когда он чувствовал, что люди видят в нем урода и не решаются спросить, «а что, малыш и психически отсталый тоже», как однажды сформулировала этот вопрос всех вопросов краковская портниха, к которой Ружа привела его, чтобы та сшила мальчику пальтишко.
Его преподобие не сомневался ни в умственных способностях, ни в моральном и эмоциональном развитии ребенка, более того, он считал его своего рода Божьим ангелом и даже один раз произнес это вслух.
Он то и дело брал Давида за руку. Ладонь его была мягкой и влажной, и вел он себя так, как будто Давид, такой, как он есть, представляет собой воплощение стремлений всей его жизни и священнического представления о том, каким должно быть человеку, чтобы стать достойным Бога и Церкви.
Это пугало мальчика, и он почувствовал такое отвращение к этому человеку, что у него из уголка рта вдруг потекла слюна.
Дон Антун побежал к письменному столу в углу зала, достал из выдвижного ящика кружевной платочек и подскочил к Давиду, чтоб самому подтереть слюну.
Профессор был вне себя от бешенства.
Он не мог понять, почему мальчик так ведет себя по отношению к нему. За что так жестоко наказывает?
Он умен, безусловно, умен гораздо выше среднего уровня, в определенном смысле можно было бы сказать, что он даже гениален. Все понимает, все чувствует. Его знания во многих предметах шире и глубже, чем у дипломированных специалистов лучших университетов. Профессор это знает. Он тридцать лет преподавал и видит молодежь насквозь. Почему же тогда он так его мучает? Почему кривляется и притворяется глубоко умственно отсталым? Молчит, когда его преподобие задает вопросы, отшатывается, как запуганный щенок, когда тот хочет погладить его по голове, опускает глаза, когда он, его отец, просит рассказать его преподобию, что он знает о Пунических войнах, притворяется, что ничего не понимает, когда его преподобие, после того как пан Хенрик сказал, что мальчик свободно и без акцента говорит по-французски, обратился к нему на французском, кстати сказать, ужасающе плохом…
– Что поделаешь, таковы дети, – сказал дон Антун, – а наша задача – постоянно помнить, что и сами мы дети – Божьи. Они оставили Давида в покое и перешли на другие темы.
Священник, совсем как гид перед туристами, прочитал гостям лекцию о селе и его жителях. Привел некоторые общие сведения: численность населения, как «постоянно присутствующего», так и «отсутствующего», то есть число работающих в Америке, главным образом в Питсбурге, или же плавающих на английских и греческих судах.
Рассказал историю возникновения Мирил, которая оказалась не такой уж неинтересной: в шестнадцатом и семнадцатом веках, то есть во времена больших войн и столкновений Венеции с турками, да и после того, в годы больших эпидемий и голода, безвластие и анархия расцветали не только на суше, но и на море. Пираты грабили людей и жгли села по всему побережью, и после одного такого нашествия выжившие отправились искать прибежище в горах, где они смогли бы остаться до той поры, пока на землю снова не вернутся порядок и мир.
Сначала устроили себе временные укрытия, которые постепенно превратились в скромные, но хорошие дома. В каждом жило одно большое сообщество, состоявшее из пяти-шести семей, связанных друг с другом кровными узами. Занимались разведением скота и ждали дня, когда смогут вернуться обратно, к себе, в сожженные села на берегу моря. Однако, как мы видим, этот день не настал и по сию пору.
Мечты о возвращении развеялись, скорее всего, в конце семнадцатого столетия, во время последней большой чумы, которая свирепствовала в этих краях весной 1695 года.
Мор прокатимся по всему побережью от Венеции, Крайны и Боснии до самого Дубровника и Албании. Один Бог знает, сколько жизней унесла эпидемия за несколько месяцев, но, говорят, до Мирил она не добралась, никто здесь не заболел.
Тогда-то и была построена местная церковь, посвященная святому Рокко. И, как говорят, стоило появиться церкви, люди перестали чувствовать себя изгнанниками. И очень быстро выбросили из головы то, что казалось им раньше самым важным: вернуться туда, откуда пришли их предки, в тот мир, к которому они принадлежат.
– Познали Бога и поняли, что безразлично, в какой части Божьего мира строить свой дом.
Давид слушал и напоминал. Ему был противен этот сдобный священник, но его рассказ нравился.
Он проводил их до верхней окраины села и, как ни странно, ни о чем не расспрашивал, а профессор Мерошевски все время, пока они сидели за длинным и блестящим черным столом, придумывал, что о себе рассказать, о чем промолчать, а что выдумать. Под конец решил выдумать все. Ему было интересно посмотреть на лица своих спутников, на растерянность Хенрика и особенно Ружи, когда он пустится повествовать о том, что он, внук Сенкевича, по профессии химик и специалист в области ядов, по трагической случайности отравил собственную жену, то есть мать Давида, а сына сделал инвалидом.
Вот что он собирался рассказать дону Антуну.
И пока они не попрощались, надеялся, что тот хоть что-то да спросит и тем самым даст ему возможность соврать.
– Приятный человек! – сказал Хенрик.
– Очень приятный…
– Противный! – выкрикнул Давид.
Но отец не отреагировал. Сделал вид, что ничего не слышит. Он был сердит, хуже того, он был обижен. И мальчик хорошо знал, чем он обижен.
– Ты меня позоришь, – сказал он ему однажды, когда Давид точно