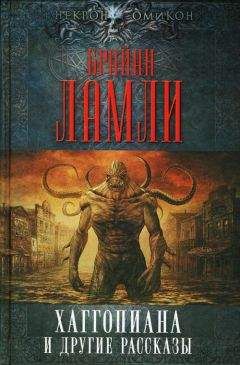так же разыгрывал перед кем-то умственно отсталого. – Люди подумают, что у меня умственно отсталый ребенок, – сказал он тогда.
Давид это запомнил. Ничего не сказал, но запомнил. Он понял, отец имеет в виду, что он его и так достаточно позорит тем, какой есть, и не нужно позорить еще больше тем, чего нет.
Кто знает, был ли Давид прав и действительно ли профессор Мерошевски что-то такое имел в виду – это уже не было важно.
– А от его руки воняет мочой. Понюхай! – мальчик совал под нос Руже свою правую руку, за которую почти все время гостеприимно и дружелюбно держал его дон Антун.
Ружа отошла от него подальше.
В то утро все были сердиты на Давида.
Без него им все казалось проще. Им казалось, будто они живут в его голове и никак не могут оттуда выбраться.
А дон Антун Масатович остался доволен хорошо выполненной миссией. И если в моменты безропотного смирения, нередкие в этом заброшенном, забытом Богом и людьми краю, ему иногда и казалось, что в основном он занимается евангелизацией деревьев и камней, крещением рогатых гадюк и чтением молитв среди густых колючих кустов, то теперь он наконец-то сделал нечто важное. Или нечто, что ему казалось более важным, чем было на самом деле.
Если уж ему не удалось остаться за рамками происходящего, если эти странные люди не прошли стороной мимо него и его паствы, на что он понадеялся в первое утро, если вошли прямо к нему в церковь, напугав женщин так, что теперь неизвестно, когда они снова появятся на утренней мессе, то он по крайней мере продемонстрировал всему селу, в том числе и последнему Фоме неверному, прозванному Алдо Американцем, что с этими людьми, иностранцами и караджозами, он может разговаривать на равных, что они не могут его заколдовать или обмануть и что всякий следующий раз он будет точно так же провожать их как дорогих гостей, с улыбкой и уважением.
Но когда мириловцы станут расспрашивать о Караджозе и его свите, дон Антун им ничего не скажет. Ни кто эти люди, ни чем они занимаются, ни на каком языке говорят, когда переговариваются не по-немецки, потому что всем будет лучше, если это останется загадкой и тайной.
Он возвысит голос, обрушится на них как праведник и как пастырь, назовет, если понадобится, безбожниками, обзовет еще худшими словами, оскорбит самыми страшными оскорблениями из тех, что в его краях употребляются только по отношению к туркам, и все для того, чтобы народ получше запомнил его слова.
Впервые с тех пор как он прибыл в Мирила, а тому уже без малого пятнадцать лет, произошло нечто, что могло бы укрепить его положение и авторитет в отношениях с этим исключительно враждебным ему, а значит и Богу, миром.
– Нет никакого Караджоза, – прогремит он в воскресенье, – все это выдумки бездельников, – намекнет он на Алдо Американца, – а там, наверху, только больной ребенок, самый младший брат Господа нашего Иисуса Христа, над физической и душевной отсталостью которого может издеваться лишь сатана.
Именно такие слова он и скажет, рисовал свою месть дон Антун в послеполуденной дремоте.
А потом, хоть и знал, что из-за этого уже не сможет заснуть, заставил себя дойти до письменного стола и авторучкой с черными чернилами, купленной этой зимой в Загребе, в книжном магазине «У Кугли», записать каллиграфическим почерком:
«Никакого Караджоза нет. Все это выдумки бездельников, бредни и бессмыслица. А тот ангел, там, наверху, перед Немецким домом, это лишь больное дитя, самый младший брат Господа нашего Иисуса Христа, над физической и душевной отсталостью которого может издеваться лишь сатана».
Потом немного подумал и зачеркнул упоминание о самом младшем брате Иисуса Христа, а под этой фразой с новой строчки дописал: «для воскресной мессы, чтобы не забыть».
Отец не захотел разговаривать с Давидом и за обедом. Делал вид, что его нет, ни разу не посмотрел в его сторону, а так как рядом с ним сидели Хенрик и Ружа, отец не смог разговаривать с ними.
Говорил только с Катариной и Илией. А потом только с Катариной.
Илию, сам того не замечая, из разговора исключил, но ничего неловкого в этом не было.
– Папа с нами говорить не хочет. Считает нас глупыми! – сказал мальчик Илии.
Огромный человек рассмеялся. Это не было шуткой. Смеялся он так, как люди смеются, услышав какую-нибудь необыкновенно мудрую мысль, неожиданную, случайную рифму или что-то особенно умное, о чем, правда, нельзя было бы продолжить разговор, и тогда смех становится самым уместным выражением одобрения и согласия.
В тот день профессор Томаш Мерошевски не разговаривал с сыном до самого ужина. Делал вид, что того нет, и тем самым наказывал за поведение у священника.
И потом в результате этого пренебрежения мальчиком почувствовал, что ему стало легче.
Он понял, что может находиться с Давидом в одной комнате или под одной крышей, но при этом не разговаривать с ним и не думать, не болит ли у него что-нибудь и не забыла ли вдруг Ружа дать ему лекарство. Понял, что не должен о нем думать и что это, в сущности, очень просто. Гораздо проще, чем терпеть мальчика с утра до вечера, каждый осознаваемый им миг, во сне, в совести и в душе.
Вот так легко, гораздо легче, чем он предполагал до того, как они отправились в эту поездку, Томаш освободился от Давида. Или, выражаясь новозаветным языком, безболезненно отрекся. Ему будет легче переносить этого ребенка, после того как он почувствовал безразличие. А благодаря этому легче будет и любить его.
Следующим утром они опять разговаривали как ни в чем не бывало. Возможно, он даже стал терпеливее, чем раньше.
Мальчик чувствовал, откуда идет эта терпеливость и что она означает.
Но и это его не касалось.
Происходило нечто такое, что для Давида было самым важным и самым интересным во всей его жизни – и той, которая уже истекла, и той, которая ему еще обещана.
И называлось это нечто очень старинным словом – любовь.
В предыдущий день, после полудня, когда отец делал вид, что мальчик не существует, он пошел на прогулку с Катариной. Они не стали спускаться к Мирилам, а сначала долго осматривали ближайшие окрестности отеля, она показывала ему лимонные и апельсиновые деревья, которые выхаживала годами: поливала, обогревала и накрывала во время сильных холодов, пока они не окрепли настолько, что дальше могли расти сами и не бояться льда и северных ветров.
А потом