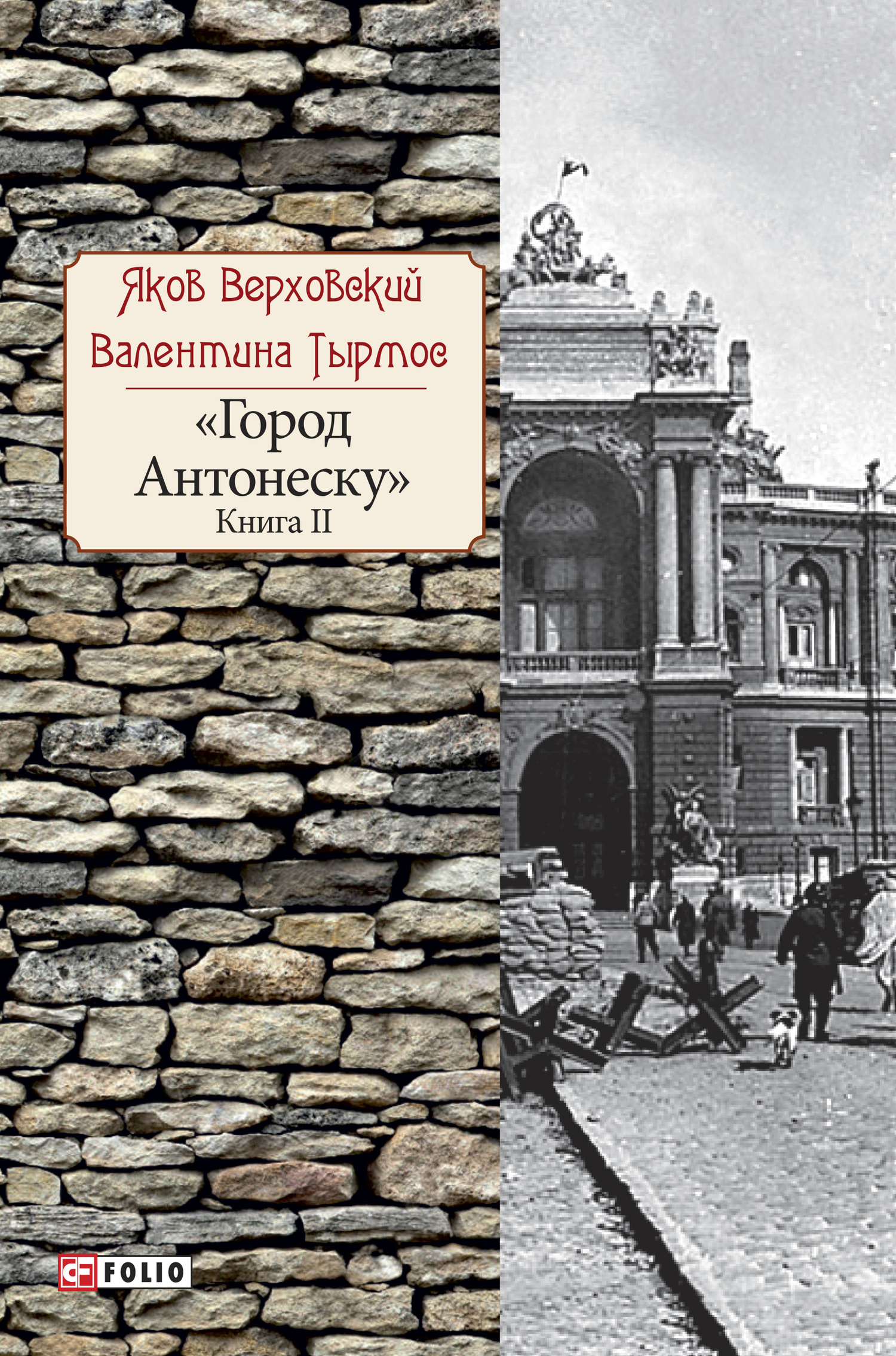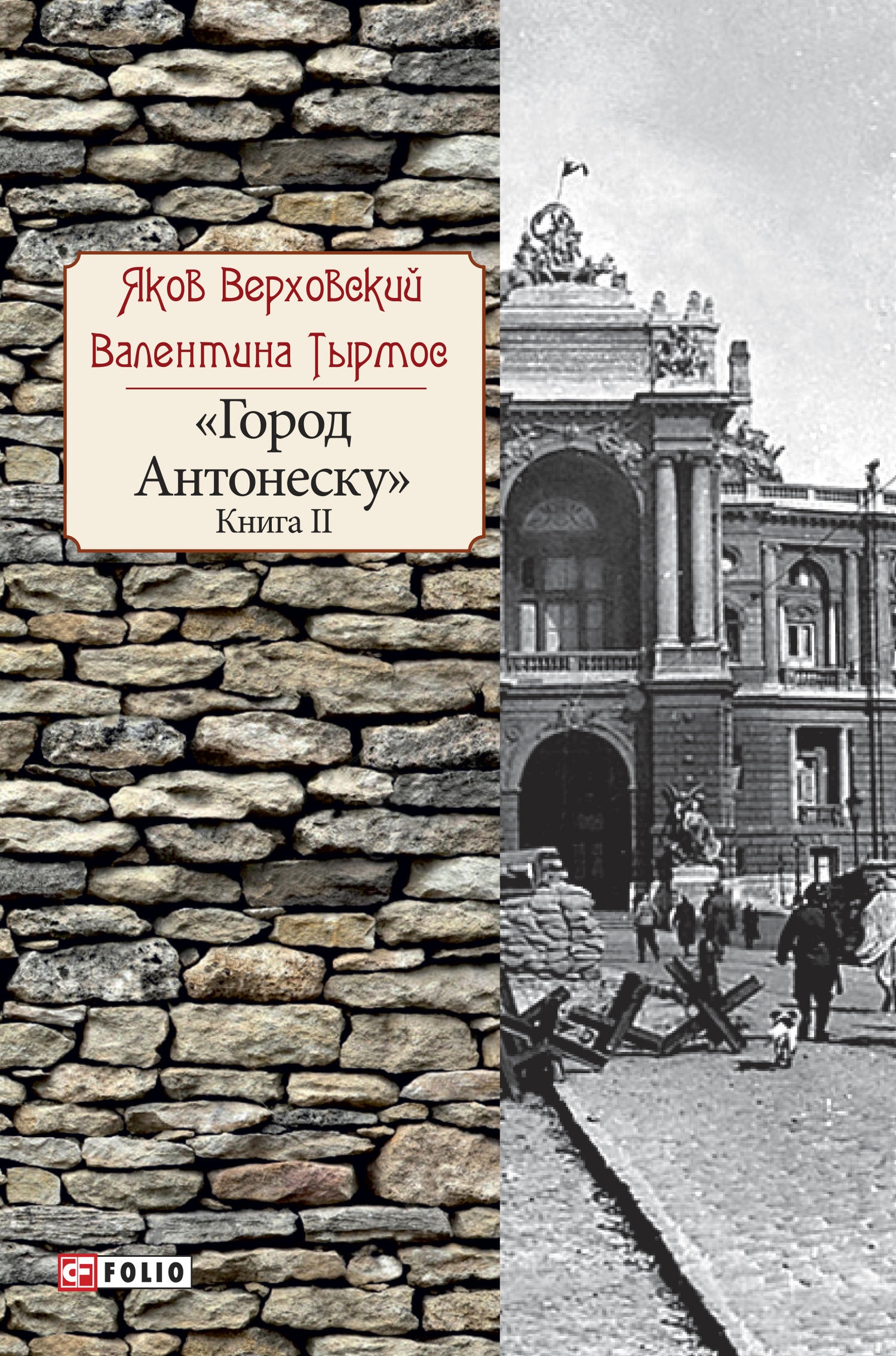стараюсь на него не смотреть – у него почему-то весь рот перекошен и глаза навыкате с красными прожилками, непонятно куда-то смотрят…
Дядя Миша достает бутылку самогона, и мутная жидкость булькает в стаканы.
«Миша, что это ты с утра пораньше?» — пытается остановить его тетя Нина.
«Дык, Ниночка, в нас же гости. Слава богу, опохмелитыся нэ грэх», – оправдывается дядя Миша.
«Давайтэ по махонькой, – обращается он к маме, – За прятнэ знайомство и с праздником!»
А мы и не знали, что сегодня праздник!
Но мама не подает вида, отвечает ему: «С праздником!»
Тетя Нина с любопытством смотрит на нас: «А мальчик у вас большой, сколько ему?»
«Одиннадцать», – говорит мама.
«А нашей Любаше десять, а Диде только пять», – хвастается дядя Миша.
Любаша рыжая-рыжая, вся в веснушках, и косички-хвостики торчат.
«Чого ты, Любаша, стесняешься? – обращается к ней отец. – Дывысь, який жених!».
Все громко смеются. А мне не смешно. Любаша мне не нравится.
Мне нравится совсем другая девочка – Леночка из нашего класса, отличница, с черными кудряшками. Леночка, правда, дружить со мной не хочет. Она дружит с Петькой – он тоже отличник, а я так себе, «хорошист».
Любаша не похожа на Леночку, а теперь, когда стали про жениха говорить, она еще даже вся красная стала.
Миша, наверное, это заметил, оставил ее в покое и перешел на Дидю: «Дидя, а тебе нравится мальчик?»
Дидю на самом деле зовут Лидой. А Дидя – просто потому, что она сама себя так называет – не выговаривает букву «Л».
Дидя смотрит на меня, улыбается, размазывает мамалыгу по лицу.
Дидя мне нравится, но мамалыга больше. Тетя Нина, наверное, понимает это, и накладывает мне в тарелку еще и еще, и снова начинает расспрашивать маму. Как попали из Кишинева в Одессу? Где познакомились с сестрой? Зачем приехали в Колкотовую Балку?
И мама снова должна выдумывать, что мой папа, которого в ту страшную ночь расстреляли на Дальнике, находится где-то здесь под Тирасполем в плену и что с сестрой ее они встретились случайно, но очень понравились друг другу…
«Ну что ж, – будто что-то решив, говорит в конце концов Нина. – Живите у нас сколько надо. В тесноте, да не в обиде».
Колкотовая Балка, март 1942 г. Дом Сидоровны
Мы прожили у Шесточенков всю зиму. Все они, и дядя Миша, и девочки, и тетя Нина относились к нам, как к родственникам.
Так они и соседям объясняли: «Родственники погостить приехали».
Тетя Нина очень привязалась к маме, и они часто по вечерам, когда вся домашняя работа была сделана, о чем-то тихо разговаривали.
Но когда наступила весна и начал таять снег, что-то как будто бы изменилось. Тетя Нина начала нервничать, без особой причины кричать на девчонок, пугаться каждого стука в дверь. Это, как мне кажется, произошло после облавы, когда жандармы рыскали по селу, а мы сидели, закрывшись в задней комнате.
Нам, наверное, нужно было уже уходить от Шесточенков.
И вскоре тетя Нина действительно подыскала нам новое жилье – на той же улице, в доме, принадлежащем какому-то Бондаренко.
Бондаренко с семьей жил в Тирасполе, а за домом присматривала старушка, которую все звали Сидоровной. С разрешения Бондаренко она согласилась сдать нам комнату. Так мы начали самостоятельную жизнь, выдавая себя за русскую семью, родом из Кишинева, приехавшую из Одессы.
Вокруг нас теперь было много соседей – русских, украинцев, молдаван.
Мы очень отличались от них – пищей, одеждой, языком. Это было очень опасно, и нужно было всегда быть настороже.
Я должен был забыть свою фамилию «Верховский» и помнить, что моя фамилия «Лукован». Я должен был забыть имена мамы и бабушки. Забыть, что мой папа остался там, в Одессе, на Дальнике.
Забыть… Забыть… Забыть…
И самое главное, говорила мне мама, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах никто не должен видеть меня со спущенными штанами.
Иначе они сразу узнают, что я еврей…
Все заботы лежали на маминых плечах. Нам нужны были деньги на еду, на оплату комнаты. Мама искала выход и часто уходила куда-то.
Мы с бабушкой подолгу оставались одни и общались, в основном, с Сидоровной. Это была грузная, но очень проворная старушка, которой «до всего было дело». Все ей нужно было знать, везде она совала свой нос.
Сидоровна трудилась с утра до вечера, у нее были куры, гуси, поросенок и большой огород. Жила она одна. С нами ей было, наверное, веселей, да и продукты какие-то бабушка у нее покупала.
Однако ее любопытство досаждало нам и пугало.
Однажды, сидя в кухне на табуретке и заталкивая бедному гусю в горло зернышки кукурузы, Сидоровна заметила, что бабушка, варившая суп, бросила в кастрюлю луковицу. Она очень удивилась и спросила: «Шо цэ вы суп по-жидивськи варытэ? Цэ тильки жиды в суп цибулю кладут!»
Бабушка, правда, не растерялась и сумела оправдаться: «Та голова плоха стала – забула, що це нэ борщ».
Но Сидоровна, видно, все-таки что-то поняла и ехидно улыбнулась.
Когда наступило время праздников, наша хозяйка попросила соседа заколоть поросенка, которого она, как и гуся, откармливала к Пасхе. Как сосед выполнил это, я, к счастью, не видел. Но потом мертвого поросенка положили посреди двора, обложили хворостом и стали «шмалить». Запахло жареным.
Вокруг собрались соседские дети.
Всем им дали по кусочку поросенка – кому ухо, кому хвост.
Один какой-то кусочек дали и мне.
Отказаться было неудобно, и я стал его грызть.
Никогда я такого не пробовал, и, по правде сказать, это было вкусно.
Но в дверях дома стояла моя бабушка и молча смотрела на то, как ее, верующей еврейки, внук ест свиное ухо.
От Янкале: Пасхальная ночь
Тирасполь, ночь с 4 на 5 апреля 1942 г. 171 день и ночь под страхом смерти
Наступила Пасха.
Все соседи пекли куличи. Они получались высокие, с коричневой корочкой, напоминающей шляпку, и вкусно пахли.
Сидоровна тоже пекла куличи и яйца в разные цвета красила.
Мы, конечно, ничего такого не делали – не знали даже, как это следует делать.
Неожиданно нас выручила Сидоровна.
«Як що схочитэ, то я и для вас кулич спеку», – предложила она.
Мама согласилась.
Накануне праздника к нам пришла тетя Нина и пригласила поехать с ними в Тирасполь в церковь.
И мама опять согласилась.
Бабушка осталась дома, а мы с мамой взяли кулич, который испекла нам Сидоровна, и поехали «светить его» с Шесточенками в церковь.
Церковь