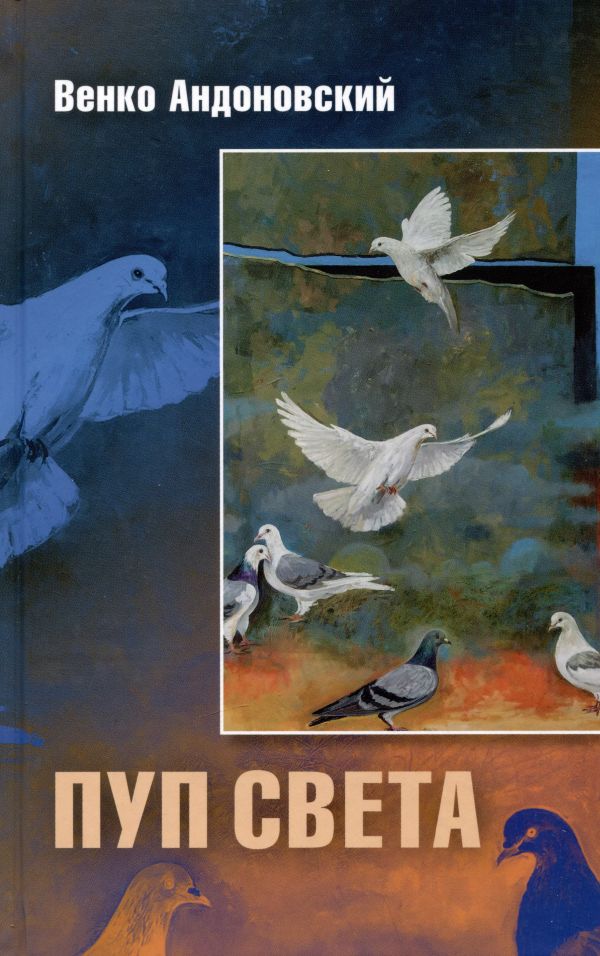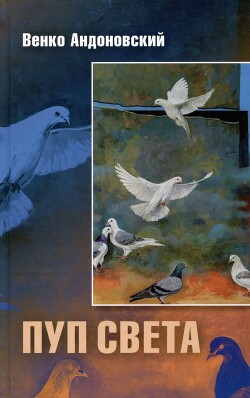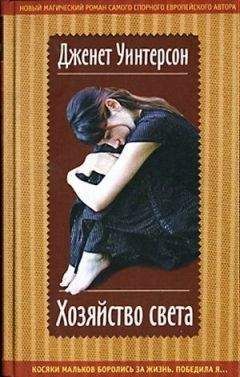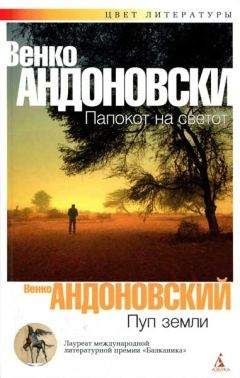Филипп — вундеркинд, ей в детском саду сказали, что его надо отдавать сразу во второй класс, а не в первый. По работе я уже имела дело с такими чрезвычайно талантливыми детьми: они даже в полной семье потом становятся несчастными, склонными к разным зависимостям.
Мы стояли перед надгробной плитой дяди Милана и смотрели то на его улыбающуюся фотографию с пятиконечной звездой над ней, то на трепещущее на лёгком ветерке пламя свечей. Лела так и не исполнила его предсмертную волю: не зажигать за него свечи, только сигареты. В какой-то момент она что-то увидела неподалёку и ушла, оставив меня одну у могилы. Я не знаю, как долго её не было, но пришла она такой бледной, будто вернулась из мира мёртвых. Челюсть у неё тряслась.
— Что случилось?! — спросила я, увидев её взгляд.
— Там, — прошептала она и указала на ряд недавних могил. А потом в изнеможении села на надгробную плиту, а я стала брызгать ей в лицо водой, которую принесла в вазе, чтобы поставить цветы. Когда она пришла в себя, то встала, взяла меня за руку и сказала: — Пойдём.
Было невыносимо жарко, и я сначала подумала, что у неё солнечный удар; тем не менее, я пошла за ней. Мы остановились перед свежей могилой, на кресте была завёрнутая в целлофан фотография молодой девушки.
— Это Нина, — сказала она, и у меня подкосились ноги. — Я же говорила тебе, что она жива в другой вселенной. Этот гад всё-таки убил её в этой.
Я смотрела на неё и не верила своим глазам и ушам. Что же случилось с той Ниной через три дня после того, как она сыграла роль, в которой её должны были убить? Я почувствовала, что ёжусь. Тут взгляд упал на имя, написанное на кресте, и мне стало чуточку легче.
— Ты уверена, что это Нина?
— Конечно.
— Но есть одна маленькая проблема, — сказала я. — На кресте написано Мила.
— Ну и что? Ты же не думала, что в двух параллельных вселенных имя будет одно и то же?
От холодной уверенности, прозвучавшей у неё в голосе, мурашки побежали у меня не только по коже, но и по душе. А она схватила меня за руку, как будто я была её сумкой, и потянула вниз, к дороге, где был припаркован её «жук». Через пятнадцать минут мы уже были в кабинете директора кладбища, который смотрел на нас, будто мы террористы.
— А какое вам дело до того, когда были похороны? — спросил он.
— Мы были с ней знакомы, — ответила Лела.
— Ну, если знакомы, то странно, что вы не слышали… — не прекращал упорствовать директор. Потом он встал и, прежде чем повернуться к нам спиной и посмотреть в окно на своё царство с бесконечным морем крестов, сказал:
— Мы такую информацию не даём. Спросите тех, кто придёт к ней на могилу.
В следующее мгновение Лела снова тащила меня, как сумочку, к «жуку».
— Куда мы несёмся? — воскликнула я нервно, оскорблённая её отношением.
— Спросим у того, кто придёт на могилу… Будем ждать, кто-то должен прийти, могила еще тёплая.
От этой её отвратительной формулировки я содрогнулась. Она произнесла слова «тёплая могила», как будто говорила про хлеб только что из печи.
Когда «жук» вынес нас на горку, мы испытали настоящий шок: вокруг могилы стояли кино и звукооператоры и осветители, перед могилой в режиссёрском кресле сидел пожилой бородатый мужчина, вокруг была охрана, и нам было ясно видно, что Нико, убийца Нины, стоит на коленях у её могилы и сквозь слёзы произносит монолог перед тремя камерами. Нина со съёмочной группой, укрывшись в тени соседнего дерева, внимательно следила за текстом со сценарием в руках. На лице Лелы читалось удовольствие. Она растянула рот в циничной улыбке: это была та самая гневная улыбка, с которой она злилась на судьбу, когда проигрывала мне в зонк: обычно я вырывала победу с последним броском костей, когда сумасшедшая удача спасала меня от поражения, иногда у меня выпадало сразу пять шестёрок. Она надавила на газ и как фурия вылетела с кладбища. Молчала.
— Логично, — испуганно сказала я. И добавила, чуть более уверенно: «Если он убил её в кино, то сцена раскаяния на могиле просто неизбежна».
— Ты не понимаешь, — сказала она с надрывом. — Недавно мы входили в ту вселенную, в которой она мертва; мы видели её могилу! Но это длилось недолго! Мы только что вышли из той вселенной. И снова вернулись в нашу, в которой она жива и к тому же киноартистка. И мы по-прежнему не можем доказать, что параллельная вселенная существует. И что эта здешняя вселенная скорее всего ненастоящая, а настоящая — та, другая. Потому что я видела, что её убили, не знаю, веришь ты мне или нет, но я видела своими глазами, им нечего даже и пытаться обмануть меня каким-то насосом для разбрызгивания фальшивой крови! Даже если здесь она жива, то где-то она мертва — упрямо повторяла она.
Я молчала. Ёжиться стало моим постоянным состоянием с Лелой с тех пор, как я приехала вчера. Я хотела сказать ей, что сегодня утром тайно заглянула в её дневник, что видела, что она написала прошлой ночью, попросить прощения за то, что ничего не спросила о нём и о ней… Это и правда, было бессердечно с моей стороны. Я хотела спросить её — как она может утверждать, что буквы стали картинками букв, так же, как сигареты стали картинками сигарет, а здесь непохоже, что жизнь стала картиной жизни (раз она убеждена, что тот артист действительно убил Нину из-за измены), и что она придаёт этой картинке больше значения, чем реальности? И хотела спросить — заметила ли она, что в левом ботинке Филиппа дыра и что ему нужны новые туфли, что он в зимней обуви, а сейчас лето, но… не стала. Совесть у меня была нечиста, потому что, положа руку на сердце, я приехала к Леле по другой причине, не для того, чтобы заниматься её проблемами…
ЛЕЛА
Филипп все чаще убегает из детского сада. Где он ходит, что делает, одному Богу известно. Непонятно, где у этих воспитателей глаза. Вчера, после того, как мне в панике позвонили из сада, что он снова сбежал, я искала его три часа и обнаружила выходящим из церкви. Пономарь сказал, что он пришёл в девять, а я увидела, как он выходит, около полудня. Что шестилетний ребёнок может делать в церкви три часа? Я