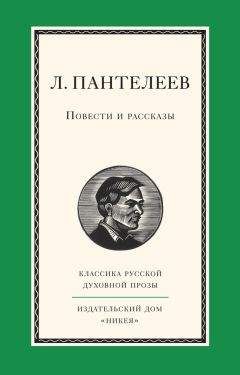Кучерявый в калитку постучался. За оградой пес залаял, цепь зазвенела. Грустно стало Петьке – ужасно. Вздохнул Петька.
«Приют? – думает. – Ничего себе приют. Тюрьма какая-то… На замочках все да на ключиках. Отсюда и не смоешься, пожалуй».
Открылось в калитке окошечко маленькое – глазок. Выглянул кто-то в окошечко. Косоглазый кто-то. Не то татарин, не то китаец, не то монгол.
– Кто? – спрашивает. – Кто такой стучится?
– Откройте, – говорит кучерявый. – Не бойтесь. Ничего особенного. Малолетнего вора веду.
Окошко захлопнулось, в скважине ключ заерзал. Распахнулась калитка – косоглазый русским оказался…
– Здравствуйте, – говорит. – Милости просим. Заходите.
Вошли. Собака бросилась. Лает, язва, рычит. Цыкнул на нее косоглазый:
– На место, Король!
– Проходите, – говорит, – в контору к заведующему – по лесенке во второй этаж.
Пошли через двор. И сразу кучерявый важности напустил: наган поправил и по-военному зашагал: раз, два, левой!..
А Петька идет озирается. Двор громадный, щебнем по краям усыпан; сквозь щебень крапива, лопух растет, всякая гадость.
В открытые окна ребята глядят. Петьку разглядывают.
Слышит Петька:
– Ребята, фрея ведут!
«Что, – думает Петька, – за фрей еще? Какой я фрей».
По лесенке поднялись в контору. В конторе какой-то маленький и чернявенький хлопчик сидел на полу и кисточкой рисовал на громадной бумажине красную пятиконечную звезду.
– Здрасти, – сказал кучерявый.
– Здрасти, – ответил чернявенький хлопчик важно и басом. – Вам заведующий требуется?
– Заведующий, – сказал кучерявый.
– Федор Иваныч! К вам… – кричит чернявенький, а сам Петьку разглядывает с ног до головы и насмешливо улыбается.
Выходит из соседней комнаты Федор Иваныч, заведующий. Человек плешивенький, очкастый и седоват слегка.
– Так, – говорит. – Здравствуйте. Новенького привели?
– Новенького, – отвечает кучерявый. – Здравствуйте. Примите, пожалуйста, под расписку.
– Расписку? Так… получите… Так… можете идти. Взял кучерявый расписку, поглядел.
– Прощайте, – говорит. – Прощай, шпана. Ушел кучерявый.
Федор Иваныч за стол уселся. Петьку оглядел.
– Звать тебя Петром? – спрашивает.
– Петром, – отвечает Петька. И фамилию назвал.
– Та к, – говорит Федор Иваныч и спрашивает: – Вор?
Покраснел Петька. Сам не знает, почему. Чудной какой-то этот Федор Иваныч.
– Вор, – отвечает.
– Так… – говорит Федор Иваныч. – Это ничего. Это бывает. Поживешь – человеком будешь. А сейчас тебя первым делом в должный вид привести надо. Так… Миронов, отведи новичка к Рудольфу Карлычу.
Вскочил чернявенький хлопчик, кисточку бросил, руки вытер.
– Идем, – говорит, – пацан.
Идут они по разным коридорам. Темновато. Лампочки угольные тлеют. Двери белые по сторонам.
– Это, – говорит чернявенький, – классы у нас тут помещаются. Уроки происходят.
– А куда ты меня ведешь? – спрашивает Петька.
– К санитару Рудольфу Карлычу. Мыть он тебя будет.
– Мыть?
– Ну да. В ванне.
Постучал чернявенький в какую-то дверь:
– Рудольф Карлыч! Примите новенького!
Вышел толстенный дядя в белом халате. Уши у дяди громадные, голос жирный. Немец, должно быть. Санитар.
– Нофеньки? – спрашивает. – Это ошень мило, – говорит. – Идем в ванную, пока вода горячий.
Потащил Петьку в эту самую ванную. Притащил.
– Растефайся, – говорит.
– Что?
– Растефайся. Мыться будешь. С мыло и щетка. Стал Петька с себя барахло сдирать. Полегоньку сдирает.
«Как бы, – думает, – часики не выскользнули». А санитар, между прочим, говорит:
– Ты это все оставляй. Да. Мы твою кустюм в печка сожгем.
Испугался Петя. За штанишки ухватился.
– Как, то есть? – спрашивает. – Как, то есть в печка?
– Да ты не пойся. Мы тебе другая кустюм выдадим. Чистый. Чистый брючка, чистый блюзка и даже сапожка дадим.
Что делать Петьке? Сидит Петька совершенно нагишом, сжимает в руках грязное свое барахлишко и дрожит. Не от холода, конечно. Тепло в ванной, жарко. От страха дрожит.
«Ну что, – думает, – мне делать? Погибать?»
А погибать Петьке прямо не хочется.
На Петькино счастье, немец вышел куда-то. Недолго думая, развязал Петька узелок и сунул свои золотые часики в рот. С усилием впихнул. Чуть рот не разорвал своими золотыми часиками. Щеки вспухли. Язык куда-то в постороннее место вдавился. Стерпел Петька, зубы сжал.
Только сжал – немец приходит. С щипцами. Подцепил щипцами Петькин «кустюм», уволок куда-то. Вернулся, воды накачал в ванну.
– Лезь, – говорит.
Залез Петька в ванну, в теплую воду. Вода помутнела сразу: шутка ли – в бане Петька лет пять не был. В реке, правда, купался… Да разве такое тело купаньем отстираешь?
Очень хорошо Петьке в ванне. Прямо что надо, не вылезал бы, кажется, до чего хорошо.
Да только, на Петькино несчастье, немец разговорчив попался. Намыливает Петьке голову, а сам говорит. Говорит, говорит, словно речь говорит. Все спрашивает, любопытствует. И как Петьку звать по имя-отчеству, и за что попался, и где родителей потерял, и тому подобную чепуху спрашивает.
А Петька молчит. У Петьки часы во рту.
Петька головой орудует. Качает, кивает, мотает, когда надо. Мычит в крайнем случае.
Обиделся немец, что ли, но замолчал.
Стал немец воду менять. Грязную выпустил, свежей наливает. Холодной накачал, кипяток пустил.
Сел в уголок на стул, газету взял.
– Ты, – говорит, – сиди, отмачивайся… Когда горячо будет, – скажи. Я закрою.
Мотнул Петька головой: ладно, дескать.
А вода течет. Теплее и теплее становится. Прямо шпарит Петьку. Прямо обжигает тело.
А немец газету читает, громадными ушами шевелит.
Вода течет. И вот же не может больше Петька терпеть. Ерзает, мучается, а сказать не может, крикнуть немцу не может.
Не выдержал Петька, забултыхался, нырнул в горячую воду и выплюнул часы на дно. Вылетел пробкой и как заорет:
– Го-ря-чо-о-о!
Вскочил немец, бросил газету на пол, сунул ладонь в ванну и заверещал:
– Ой, глупая мальчишка. С ума ты сходил? Лезь вон! Живее!
Схватил Петьку за плечи, вытащил вон. Рассердился. Кричит.
– Что ты, – кричит, – молчаль? В такая вода курица можно сварить. Да!..
Разбавил немец воду, снова стал Петьку мылом растирать. Спину стал мылить. А Петька рукой по дну шарит. И все не может часики нашарить. Нащупал, наконец, окунулся, пихнул скользкий кругляшок в рот. А кругляшок не лезет. Ни в какую! То ли часы распухли, то ли рот у Петьки от стирки сел… Впихнул все-таки. Чуть зубы не выломал, но впихнул.
Сполоснул его немец.
– Хватит, – говорит, – посиди, я твой кустюм принесу.
Ушел немец. Сидит Петька в мыльной воде. И вдруг видит – вода убывать стала. Все меньше и меньше воды.
Пришел немец – сидит Петька в пустой ванне.
Удивляется немец.
– Зачем, – спрашивает, – ты воду выливал? Это вредно сидеть без воды голый.
А Петька сам не знает, почему вода вытекла. Он воду не выливал, не умеет даже, – сам удивляется.
– Ладно, – говорит немец. – Одевайся скорее, скоро обед будет – опоздаешь.
И подает немец Петьке целую кучу одежи. Белье подает, штаны подает, гимнастерку… полсапожки подает. И все новенькое, все чистенькое.
Стал Петька одеваться. Стал первый раз в жизни кальсоны надевать! А немец смотрит и улыбается. И Петька улыбается.
Вдруг немец улыбаться перестал.
Подозрительно посмотрел Петюшке в лицо и говорит:
– Что это у тебя, – говорит, – из рота торчит? Что это у тебя там блестит?
Вздрогнул Петька, губы захлопнул.
«Вот, – думает, – дурак, бродяга. Надо было улыбнуться!»
Отворачивается, плечами пожимает – пустяки, дескать.
А немец не отстает, за Петькино лицо хватается.
– А ну! – кричит. – А ну, разжимай зубы! Что ты там спрятал? Что у тебя там за жвачка?
Раздвинул Петька челюсти.
– Плюй! – кричит.
Задохнулся Петька, надавил языком и выплюнул свою жвачку немцу на ладонь.
И чуть не закричал от страха.
На ладони у немца не часы лежали, а пробка медная, которой дырка в ванне затыкается, чтоб вода не вытекла. Пробку Петька впопыхах в рот себе запихал, потому вода и вытекла.
Испугался Петька. Да и немец не меньше испугался. За полоумного Петьку принял. Залепетал что-то.
– Скажи мне, – спрашивает, – скажи мне, ради Бога, зачем ты пробка в рот сувал? Разве металл можно в рот сувать?
Не знает Петька, что и отвечает. Чепуху какую-то отвечает.
– С голоду я, – отвечает. – Кушать хочется очень.
А сам в ванну поглядывает: «Где часики?» Не видно что-то. Пусто в ванне, только мочалка мокрая лежит. Не иначе как под мочалкой часики. Ушел бы немец, тогда достать можно. Но не уходит немец. Петьку жалеет.
– Ах да ох!.. Матушки-батюшки! Медная, – говорит, – штучка кушать нельзя. Сейчас вот обед будет, там дадут тебе суп, каша и кисель. А медная пробка – невкусный, твердый. Вот гляди.