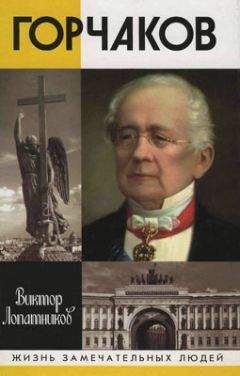— Нет.
— Бойкая девушка. Двадцать лет от роду, свежесть, очаровательнейшая болтливость… да и какие тайны могут быть у двадцатилетней девушки? Это преимущество тридцатипятилетних дев, сидящих за сухими книгами и привыкших к хранению тайн неиспытанных блаженств, к которым они и приступить боятся…
— Довольно, сударыня! Теперь я поняла вас. Сладкозвучный голос и ядовитые мысли. Вы под маской нежности несёте злобу и коварство. Я буду говорить с вами вашим языком. Тайна неиспытанного блаженства? Да! Она есть у меня. И она, во всяком случае, лучше тайны вашего сомнительного замужества…
Вошедший Горчаков добавил:
— Которую, кстати сказать, пора открыть вам, Нина Юлиановна! Слушайте же. Андрей Лукич Ахончев в продолжение двадцати с лишним лет торговал русскими конями и кожей в Европе. Когда он вступил во второй брак, ему было шестьдесят три, а вам, Ирина Ивановна?
— Двадцать пять.
— Тайны неиспытанного блаженства известны ей в более злостной форме, чем мне, старой деве, ваша светлость. Тайна малопривлекательная, ваша светлость, — попыталась уколоть Ахончеву Развозовская.
Горчаков посмотрел в её сторону:
— Вы хотите сказать, Нина Юлиановна, что такой брак отвратителен? И, однако, вы одобрите его. Мало того, восхититесь.
— Один китайский философ сказал, что человек может быть счастлив в любых положениях, кроме двух: когда его повернут вверх ногами и когда канцлер говорит загадками.
Горчаков произнес назидательно:
— Истина канцлеров огромна и способна внушить страх, если её спервоначалу не преподнести в загадочной форме. Истина Андрея Лукича Ахончева заключается в том, что во все времена своего пребывания в Европе Андрей Лукич был моим тайным агентом.
Развозовская воскликнула изумленно:
— Скупец, дисконтёр, коннозаводчик, картёжник?
— Добавьте, игрок на бегах и пьяница.
— И всё это — притворство?
— Мало того, жертва, подвиг, геройство.
Развозовская несколько неприлично указала на Ирину:
— И она?
— Так же, как и вы, Нина Юлиановна, — ответила та.
— Ну, князь, вы меня поразили.
— Последние годы мой друг Ахончев слабел. Он чересчур много работал это был первоклассный, талантливый и умный агент. Он презирал деньги, вино, великосветскую охоту, кутежи, а ему надо было пить, охотиться, сорить деньгами. Он же мечтал об Афоне, тишине гор, об одиночестве…
Развозовская всё никак не могла поверить в услышанное:
— Андрей Ахончев, выпивавший залпом бутылку вина и проигрывавший в десять минут десятки тысяч рублей?..
— Тому, кому нужно. Словом, Андрей Лукич хотел передать другому агенту свои связи, знания, опыт. В Москве, в славянском пансионе, воспитывалась умная, любящая Россию, красивая девушка. Эта девушка — сестра Райго Николова. Вы слышали о нём? Это болгарский мальчик, переплывший в бурю Дунай с целью известить русских о намерении турок переправиться через реку и напасть на русские войска. Я приказал этой девушке уехать в Софию, стать учительницей русского языка, а кутиле Ахончеву сделать вид, что он влюблён в неё, жениться на ней. Обоим моё приказание было чрезвычайно неприятно. Ахончев знал, что его дети, уже взрослые, не простят ему этого брака. Иринушка, может быть, имела кого-нибудь другого на примете…
Ирина Ивановна порывисто произнесла:
— Нет, нет!
— Они подчинились мне беспрекословно.
— Я, Ирина Ивановна… — Развозовская не находила слов. — Боже мой, как я ошиблась. Мне хочется расцеловать вас, как ближайшего друга…
Ирина Ивановна подхватила:
— Нет, как сестру!
Они вскочили, подбежали и заключили друг друга в объятия, поцеловались. Горчаков охладил их пыл:
— Вы представлены, и теперь можно приступить к деловой части нашей беседы. Я получил ещё одно подтверждение, что переговоры между Германией и Австро-Венгрией о союзе против России вступили в фазу весьма реальную. Документ переговоров находится или в имперской канцелярии у Бисмарка, или у австрийского министра иностранных дел графа Андраши. Что вам удалось, Нина Юлиановна, узнать по этому поводу у австрийцев?
— Вам известно, ваша светлость, что граф Андраши покровительствует полякам, живущим в Австрии…
— …как заклятым врагам России.
— Именно. Поляки поэтому пробрались в правительственную партию и мечтают поставить на место министра Андраши своего человека. Я сейчас приготовила для печати книгу о тяжелой унизительной жизни поляков в Австро-Венгрии. Материал яркий, простой, убедительный. Мой голос, смею сказать, слышен в Европе, и если моя книга выйдет, польской партии трудно будет взять портфель министра иностранных дел Австро-Венгрии, их будут считать предателями.
— И поляки желают?..
— Уничтожения моей книги и запрета на появление серии моих статей.
— На тему?
— О процветании поляков под скипетром Франца Иосифа.
— Но разве полякам самим не интересно опубликовать текст переговоров? Война с Россией вряд ли популярна среди австрийских славян, а тем более сейчас, после того, как мы освободили Болгарию и Сербию. В случае опубликования текста граф Андраши уйдёт в отставку.
— Да, Андраши уйдёт, а мои статьи поставят на его место поляка. И выходит, что ради получения текста переговоров я должна изменить не только славянству, но и России. Хотя я никогда не вернусь в Россию…
— Тем не менее это — прискорбное событие. Я понимаю ваши колебания, Нина Юлиановна. Поляки, как всегда, много запрашивают, а вы, как всегда, щедры. Я уверен, что Ирина Ивановна дешевле купила немцев.
Ахончева покачала головой печально:
— Я разговаривала с клерикалами. Они от меня требуют векселя…
— Ваши векселя?
— Те векселя, которые мне подарил перед смертью Андрей Лукич. Они выданы ему видным сановным немцем… Их на восемьдесят тысяч… Клерикалам надо его разорить. Они сразу предъявят эти векселя к оплате, и сановный немец разорён.
— Прекрасно. Отдайте векселя. Что, вы колеблетесь?
— Нет, я отдам.
— Однако в вашем голосе я чувствую колебание.
— Приехали наследники моего мужа. И… пропала вексельная книга… у душеприказчика… а в вексельной книге покойный отметил выдачу мне векселей… нигде больше… Мне не хотелось бы, чтобы обо мне родственники думали дурно… я теперь так одинока! И я предполагала вернуть им векселя…
— Превосходно. Верните векселя, а клерикалам дайте деньги. Я вам сейчас напишу чек.
— Клерикалам не нужны деньги, они хотят векселя.
— Тогда отдайте деньгами родственникам.
— Получится, что я украла векселя, сбыла их и, испугавшись, возвращаю деньгами.
— А разве возвращённые вами векселя ваши родственники не будут считать возвращёнными под угрозой суда?
— Нет, есть возможность…
— Тяжёлые условия. Я подумаю и скажу вам через полчаса. А пока прошу выполнить следующую работу. Сегодня фельдъегерь привёз от государя карту крайних наших уступок. Вот она. Видите, Петербург совершенно потерял голову. Они уже готовы уступить Бессарабию и Батум! А я… не уступлю. И Россия тоже не уступит! И не могу я показывать эту карту лорду Биконсфильду!
— Как же быть, ваша светлость? — спросила Развозовская.
— Вот другой экземпляр карты. Разница в цвете переплёта. И вот мой план уступок. — Принялся чертить на листе бумаги.
— Бессарабия наша? Батум наш? — спросила уже Ахончева.
— Не подталкивайте моей руки, дитя. Я знаю, какую я веду линию. И эту мою линию вы переведёте на мой экземпляр карты, а императорский… — Горчаков положил бумагу на стол. — Я бы сам начертил, но руки старческие дрожат.
— Мы начертим, ваша светлость, — сказала Ахончева.
— И мгновенно. Я — каллиграф, — дополнила Развозовская.
— А я — учительница чистописания.
— Вижу, вы подружились. Признаться, я трепещу за неё, Нина Юлиановна. Немцы жестоки, и, пока был жив мой друг Андрей Лукич, я был спокоен за неё. Я её люблю, как дочь, я надеялся на её изворотливость, смелость, находчивость…
— О, и ей не занимать стать смелости, Александр Михайлович. Развозовская развернула карту. — Ири- нушка, вы ведите линию с юга, а я — с севера.
Обе взяли карандаши, линейки. Горчаков, увидя это, произнёс, зевая:
— Ведите линию, ведите.
Старик сел в кресло, протянул задумчиво:
— А сейчас за столом Берлинского конгресса тоже ведётся линия. По этой линии выходит, что русское влияние на Балканах растёт по мере того, как Бисмарк даёт ему расти, и что положение русских в Софии непоколебимо, пока Бисмарк его не поколебал. Если б мне сорок, а не восемьдесят лет… Боже мой, как летят годы! Давно ли вот так, рядом, стоял… Это было во время его ссылки в Михайловском… Пушкин. И читал мне стихи. А давно ли парты, лицей и вот здесь — опять Пушкин… Дельвиг… и этот, с длинной фамилией и длинными ногами, Кюхельбекер. И вот с того времени прошло больше шестидесяти… — Он закрыл глаза.