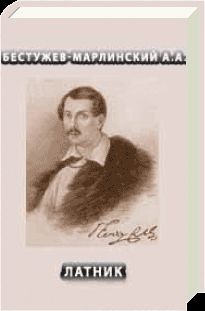Мы долго смотрели серьезно на его проказы, как он, подымаясь на цыпочки, воображал, что задевает носом за облака; мы долго слушали его нелепости, но при последнем восклицании хоть и уверились, что он рехнулся, но никак не могли удержаться от смеха, — так забавен был наш маленький человечек. В свою очередь и он с удивлением глядел на нас из широких кресел, как сытый кот из слухового окна; он не постигал, чему хохочем мы, схва-тясь за бока.
— Не проглотил ли ты, любезный Лука Андроныч, чертенка вместо мухи? — спросил поручик.
— Не опоили ли тебя французы дурманом? — сказал я.
— Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего, — подхватил Зарницкий.
— Не худо бы вам успокоиться, — примолвил я. — От бессонницы долго ли приключиться белой горячке?
— Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь… — отвечал с досадою Кравченко. — Экая невидаль — дочь Платова! Да чем бы я не зять атаману? Ведь он сам объявил всем и каждому циркулярно, что кто захватит Наполеона, за того он отдаст дочь свою, будь он простой казак, не только аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу![13] Разве не слыхали вы этой новости?[14]
— А вы небось ей поверили? Знайте же, господин аудитор двенадцатого класса, представленный к получению «Анны» на шпагу и проч… и проч… и проч… что у Платова нет дочери-невесты, что он никогда не думал и не гадал объявлять подобного предложения. Но если б даже, по щучьему веленью, а по вашему хотенью, у него и была бы дочь, если б даже нелепая лотерея эта была в самом деле вещь сбыточная, — я все-таки не вижу, почему бы наш Лука Андронович мог иметь право на ее руку?
— Не только на ее руку, ротмистр, на ее обе руки, на нее всю с головы до ног, с душою и сердцем и с богатым приданым барыша. Да неужели я до сих пор не объявил вам о славном моем подвиге, о счастливой находке своей?
Там, в темном подвале, в самой трущобе, между хламом и ломаною мебелью, знаете ли, какой клад открыл я?
— Верно, бочонок с водкою или свиной окорок, — хладнокровно отвечал поручик. — Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове нашей полевой юстиции!
— О, зависть, зависть! — вскричал Кравченко, поднимая свои телячьи глаза к потолку. — Едва успел я отличиться, меня заране хотят унизить насмешками, отбить славу клеветою. Пусть! Разве не все великие люди имели такую же участь, — да хотя бы и не все?.. Я тем не менее свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен Наполеона!
— Наполеона? — вскричал поручик, вскакивая со стула невольно. — Наполеона, который уже два раза ускользнул у нас между пальцев, вы, сударь, ты, Кравченко, взял Наполеона?
— Я, сударь, я сам взял Наполеона с мясом и с костями, говорю я вам!.. Неужто я не знаю его покляпого носа, его зеленых глаз, его синего мундира и шляпы корабликом? Разве не двадцать раз видел я его — во сне и на карикатуре! Да вот он и сам — лукавый легок на помине.
Мы оба очень мало верили проницательности аудитора, еще меньше — возможности захватить на этой дороге Бонапарта; но достичь его было самою меткою мечтою, самым пылким желанием, так сказать осью помешательства, — ив этот раз, по обыкновенной всей людям слабости к вестям самым несбыточным, впали в раздумье. «Чем черт не шутит! — ворчал поручик. — Легко статься может, что Наполеон нарочно кинулся проселками, обманывая погоню! Может, истребленный батальон был его конвоем!.. Из чего бы иначе им так упорно было драться!» В таких мыслях бросились мы к дверям, в которые входила толпа наших наездников с пленным посереди.
— Вот он, вот он! — шумели гусары. Они уж вспрыснули победу некупленного водкою, и были, что называется, навеселе, и еще более расхорохорились от уверений аудитора.
— Я первый увидел его, ваше благородие! — сказал, выступи вперед, рослый драгун.
— Я первый нашел его! — восклицал другой, пристукивая каблуком, чтоб его не забыли, так мочно, что с потолка падала известь.
— Я первый схватил его!.. — уверял казак.
— Я вытащил, я держал за руку, за ногу, за шею!.. — кричали другие.
— Без нас он бы дал стречка! — вопияли третьи. Я велел всем молчать.
— Подведите-ка пленника ближе к огню.
— Бросьте в огонь — только дайте мне расписку, что получили от меня Наполеона в целости, — ворчал аудитор сквозь зубы.
Пленник приблизился, и мы с жадностию, почти с трепетанием страха и надежды устремили на него глаза: перед нами стоял тамбурмажор[15] какого-то егерского французского полка, с преглупою и вместе с прежалкою рожею; общипанный мундир с полинявшими галунами, треугольная шляпенка на голове и на ногах вместо са-погов русские рукавицы — вот в каком виде представился нам двойник всемирного завоевателя. Надобно к этому прибавить, что, избегнув побоища, он был бледен как смерть, исключая носа, из которого и сам страх не мог выжать винного румянца. Он трепетал всем телом, потому что солдаты в жару патриотизма провожали барабанного императора, кажется, не одними угрозами.
Мы покатились со смеху. Аудитор между тем, выставя одну ногу вперед и водя чуть не по лицу пленника указательным пальцем, начал разбирать его по частям.
— Видите ли вы этот желтый, пергаменный лоб, на котором написаны его сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который за тысячу верст чует добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит человека, эти коротенькие руки с длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, проглотив целиком Европу?.. Видите ли, что у него на лице написано число 666, он же есть антихрист, сиречь Аполион, то есть Наполеон Бонапарт?
— Прокатись-ка верхом, любезный Лука Андронович, на этом пленпике, ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса!
— Не под седло, а под нозе русских надо низвергнуть этого супостата. Зачем ты навалился на Русь с двудесятыр язык? Говори, отвечай! Не заминайся! — вскричал аудитор. — Признайся… кто у тебя были на Руси сообщники?
Бедняга тамбурмажор стоял ни жив ни мертв и дрожал словно осиновый лист, видя, как петушится около него аудитор, которого, без сомнения, он считал по крайней мере главным начальником отряда. «Mon capitaine, mon colonel, mon general»,[16] — твердил он ему при каждом слове, прося пощады; но тот не хотел принимать от корсиканского выходца ни даже маршальского достоинства. Наконец нам стало жаль этого копеечного Наполеона, и я, попрося нашего героя успокоиться, сказал ему, что он очень ошибся в своем призе — что это ни больше, ни менее, как французский тамбурмажор, то есть почти барабанный староста.
— Хитрости, притворство, лицемерие! — воскликнул наш аудитор. — Вот еще новости — тамбурмажор! По барабану этого старосты плясала вся Европа, так пускай теперь спляшет по нашей дудке. Как ты ни зовись, мусье Наполеон, чем ты ни прикидывайся, а не миновать тебе железной клетки, как Пугачеву: будешь в птичьем ряду в Москве на потеху ребятишкам! Вы, господин ротмистр, как я усматриваю, хотите изменить отечеству и отпустить этого антихриста, — так знайте, что если это сбудется, я донесу обо всем высшему начальству… Будьте уверены, я возьму свое… Ни пенсия, ни приданое не ускользнут от моих рук!
Я вовсе не был расположен сердиться и потому очень скромно, однако ж твердо сказал ему, чтобы он не вмешивался в мои распоряжения; что если мне дана власть, то, само собой разумеется, возложена за нее и ответственность, только не перед ним; что по окончании наезда он может доносить что угодно и кому угодно, но когда будет писать об этом приключении, то не худо бы прибавить туда статью: что он, г-н аудитор двенадцатого класса, представленный к ордену св. Анны 3-й степени, был не в полном разуме.
— Эта статья будет излишняя, — заметил поручик, пуская ему под нос клубы дыму, — и без нее никто в этом не усомнится. Впрочем, я не знаю, любезный ротмистр, почему бы не послать в главную квартиру Луку Андроновича курьером вместе с этим Наполеоном, они развеселили бы всю армию на целую неделю.
Аудитор принял это за чистые деньги и вытянулся, как фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я в таком же тоне возразил, что, по недостатку в нашем отряде хлеба и водки, для нас самих необходимо подобное ободрение. Я велел, между прочим, стеречь этого пленника да осмотреть его.
— И всеконечно осмотреть! — вскричал аудитор. — Говорят, сопостат завсегда носит в перстне яд. Умри он — так и поминай как звали дочь Платова, невесту мою.
— Разумеется, осмотреть, — примолвил насмешливо поручик, — того и гляди, что у него нос заряжен картечью: сохрани боже чихнет, так и жениху не уйти.