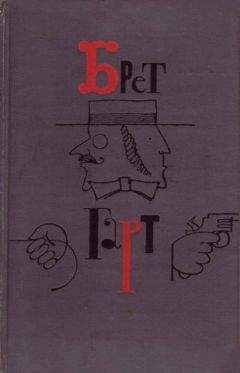"Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет".
Наш только тихо улыбнулся.
Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так - чего никогда с ним не бывало - столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:
"Тро боку, тро боку!" [слишком много (франц.)] - и щеточкой лишнее с меня счистил.
11
- А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией - одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, - терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.
Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали (*9) и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:
Приползут, - говорит, - змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы (*10).
Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.
А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.
Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...
Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг - тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, - один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.
И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании, - понимаю только: "Гонят, гонят, гони, гони!" - и больше ничего.
Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:
"Любушка, голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?"
Я отвечала, что даже с радостью согласна.
Надеялся он уйти в турецкий Хрущук (*11), куда тогда много наших людей от Каменского бежали.
И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз пропало.
Аркадий говорит:
"Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица - тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся".
12
- Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая - огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.
"Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера".
Батюшка спрашивает:
"А что вы, светы мои, со сносом (*12) или просто беглые?"
Аркадий говорит:
"Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся".
Тот говорит:
"Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, - я вас здесь окручу".
И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.
Священник взял и сказал:
"Ох, светы мои, все бы это ничего - не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, - прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь".
Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:
"Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, - она вся как голая".
А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.
13
- У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:
"Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину".
А мне говорит:
"А ты, свет, вот сюда".
Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.
Вошло семь человек погони, все из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем (*13).
Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, решатчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.
А старичок священник сробел, что ли, что дело плохо, - весь трясется перед дворецким, и крестится, и кричит скоренько:
"Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!"
А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.
"Пропала я", - думаю, видя, как он это чудо делает.
Дворецкий тоже это увидал и говорит:
"Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов".
А поп опять замахал рукой:
"Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл".
А с этим все себя другою рукой по карману гладит.
Дворецкий и это чудо опять заметил и ключ у него из кармана достал и меня отпер.
"Вылезай, - говорит, - соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется".
А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.
"Да, - говорит, - видно, нечего делать, ваша взяла, - везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал".
А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.
Тот говорит:
"Светы мои, видите, еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу".
Дворецкий ему отвечает:
"Ничего, не беспокойся, все это ему причтется", - и велел нас с Аркадием выводить.
Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.
Народ, где нас встретит, все расступается, - думают, может быть, свадьба.
14
- Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.
Я всем говорю:
"Ах, даже нисколечко!"
Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.
У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...
Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя - ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти, - такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает - мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.