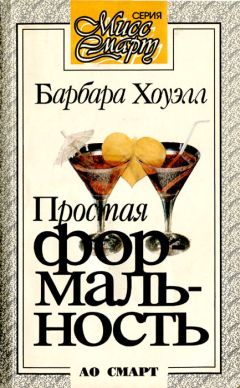Он представил себе самого себя, как он лежит в своей комнате на кровати, вытянувшись, вдавившись головой в подушку, и ждет. Потом, как бы поднявшись повыше, он увидел одновременно и дом, в уголке которого помещается его комната, и весь пригорок над рекой, и другие, такие же маленькие, домики пригородного Посада, и соседний пригорок, и дорогу к мосту, извилисто стекающую между двух холмов к берегу реки.
Потом, поднимаясь все выше, он увидел весь широкий изгиб реки, и окутанные в тумане лунной дымкой кусты на луговом, низком берегу, и сосновый лес над высоким обрывом. Его домик казался уже совсем маленьким среди беспорядочной россыпи других посадских строений, и, наконец, за излучиной реки открылось то, что можно было увидеть на самом деле только с вертолета: приземистые белые шатровые башни старинного кремля соседнего большого города.
Теперь уже все пригорки точно присели к земле, река уходила и пропадала где-то вдали, и было столько залитого лунным светом простора, такая масса свободного воздуха, что он, глядя со своего воображаемого вертолета далеко вниз, с какой-то облегченной усмешкой наблюдал, как на своей коечке, вдавив голову в подушку и вытянув руки по швам, лежит он сам, Платонов, и сейчас вот этому Платонову будет очень худо, но это не такое уж мировое и ужасное событие, что среди общего покоя и сна Платонов в своем закутке поморщится и постонет потихоньку, чтоб никого зря не будить, а потом, может быть, даже заснет.
В этот раз он довольно долго продержался на своем вертолете, и усмешка еще не сошла у него с губ, когда боль, набрав силу, стащила его на землю, все сильнее сжимая свой широкий тесный обруч у него на груди.
Он поспешно зажег лампу, стоявшую у кровати на стуле, до половины заваленном книгами, которые он читал на ночь, добросовестно проглотил все полагающиеся лекарства, машинально погасил лампу и тотчас же пожалел об этом - в темноте бороться с болью было труднее, - хотел ее снова зажечь, но рука уже не могла найти кнопки выключателя.
По обыкновению, боль вела себя подло: то усиливалась до невозможности, то начинала отпускать, так что Платонов почти готов был ее похвалить и сказать, что она все-таки приличная, терпимая боль, если собирается убираться, но она начинала все сначала, так что ни о чем хорошем думать уже не удавалось и трудно было вздохнуть даже коротким, неглубоким дыханием.
После того как ему казалось, что прошло уже очень много времени, он раза два или три пробовал приоткрыть глаза: чуть брезжат окна, а комната вся точно чернилами налита. Наверное, время совсем перестало двигаться? Ночи не будет конца.
В какие-то моменты Платонов замечал, что начинает как будто засыпать, проваливаться в глубокий, нездоровый, опасный сон, как в трясину, и через минуту просыпался от страха, чувствуя, что, засыпая, перестает дышать, и, едва успев отдышаться, снова уже чувствовал, что начинает соскальзывать с какого-то края и с головой погружаться в страшный сон, в какую-то трубу, по которой надо ползти, а она все сужается, сжимает плечи и сдавливает грудь, не дает вздохнуть, и все-таки почему-то надо ползти, втискиваться в нее дальше...
Из этого сна он вырвался, как из свалки, прерывисто дыша, со слипшимися от пота волосами на лбу, со стиснутыми кулаками, и все-таки с каким-то облегчением.
...И тотчас возникает доктор Ермаков. Не здесь, в комнате, а у себя в поликлинике, в своем кабинете, и это почему-то вовсе не странно, а так именно и должно быть. Ермаков медленно, молча отвернулся от Платонова и направился в угол, к вешалке, стаскивая на ходу помятый белый халатик со своего худого старчески-детского плечика.
Он близоруко прицелился и промахнулся, не попав петелькой, пришитой под воротничком халата, пытаясь нацепить ее на колышек.
- На данной стадии развития вашей болезни, - говорит он, - самое главное следить за собой и ни в коем случае после того, как вы сделали глубокое вдыхание, не забывать выдохнуть воздух обратно!
Платонову кажется, что это замечательный совет, и ему сразу делается легче. Вообще после тесной трубы это очень приличный, вполне терпимый, даже успокоительный сон, но потом опять обруч сдавливает ему грудь и боль грубо расталкивает его и будит, точно внезапная ночная тревога, и когда какое-то время спустя он открывает глаза, кругом все черно, темноте конца не видно, наверное, теперь вот и пойдут такие ночи: полгода будет тянуться темнота, как в Гренландии...
И действительно, ночь так и не кончилась. Произошло что-то другое. Он даже не сразу может себе объяснить что... Ах, да, боль кончилась. Тянулась, тянулась многие километры и вот кончилась. Наверное, дальше ее просто не хватило.
Блаженный покой и тишина. Точно ворвалась к тебе в комнату пьяная шайка, бесновалась и бушевала, трясла под тобой кровать, прыгала тебе сапогами на грудь, дубасила в барабаны и с хрустом ломала мебель - и разом сгинула, след ее простыл, точно ее ветром сдуло!
И от усталости, усыпленный этой блаженной тишью, он начал засыпать, уже не проваливаясь в сон, а, точно тихонько покачиваясь, всплывал куда-то на поверхность, ощущая такое безотчетное и полное счастье, какое и бывает только во сне.
Дышать теперь совсем легко, воздух, пустой и горячий, вдруг стал живым и прохладным, и ему на минуту кажется, что он опять видит свой домик на пригорке с краю поселка, и медленно текущую реку, и под крышей маленького Платонова, который улыбается, засыпая на своей коечке, вытянув руки по швам и еще глубже вдавившись головой в прохладную подушку...
Он просыпается, когда уже совсем светло. Над головой белый потолок, и за окнами свет, и все вещи выглядят не так, как ночью. Это его обычная благополучная дневная комната, и он с доброжелательным любопытством оглядывает письменный стол, лампу на стуле, заваленном книгами, и думает о том, как приятно так вот, точно вернувшись издалека, увидеть, что все еще на месте, по-старому.
Ощущение счастья так же реально сейчас, как было бы ощущение с шумом льющейся сверху воды, если бы он стоял под дождем посреди двора, подставив лицо, промокая до нитки. Это счастье зашифровано в словах: Афины, Неаполь, Париж. Телеграммы.
Телеграммы были не во сне, они заложены между страниц толстой книги "История России", там они не помнутся.
Первая телеграмма была из Афин, вторая из Неаполя и третья уже по дороге домой - из Парижа. Посылать оттуда телеграммы стоит, наверное, очень дорого, но Наташа слала их одну за другой - длинные, нерасчетливо-многословные и безрассудные, - как все это на нее похоже! Как похоже это все на Наташу, которая годами не писала ему ни строчки из Москвы.
Что бы там ни было дальше, но какое счастье, что их успел получить этот Платонов, который сегодня ночью, кажется, чуть-чуть не уехал куда подальше Неаполя и Парижа! - думает он, уже посмеиваясь.
Ему стоит некоторого труда заставить себя подумать о чем-нибудь другом. Ну и приступ был! Такого и не бывало еще, впрочем, доктор Ермаков его давно предупредил, к чему идет дело. Придется для очистки совести отправиться на прием к доктору Ермакову, придется.
Недаром он и ночью приснился и что-то говорил, наставительно-медицинское, что-нибудь полезное, наверное, а что, теперь уже и не припомнить. Пойти надо будет к самому концу приема и посидеть, подождать в коридорчике - Ермаков любит принимать его самым последним.
Ермаков проводит последнего пациента, высунется из двери и сделает вид, что только что заметил Платонова, и со своим свирепо-добродушным и насмешливым выражением сделает знак входить. Выражение у него такое, что удивляешься, как это он ухитряется его устраивать у себя на лице: понимай как знаешь - не то он насмехается над напущенной на себя свирепостью, а на самом деле полон добродушия, не то, наоборот, издевается над мнимым добродушием и на самом деле готов рассвирепеть сию минуту. Ругаясь со своим начальством, он держится добродушного тона, и это получается очень ядовито, а с пациентами, которым отдает всю свою жизнь, держит себя как укротитель, и они его любят и верят ему. Кроме начальства он вечно недоволен еще многим: больными, лекарствами, болезнями и самим собой. Он сам говорит, что похож на индюшку: маленькая головка на длинной шее в индюшачьем пуху, и, к сожалению, это правда...
И уже в кабинете, повелительно, грубо тыча холодным стетоскопом и пальцем подталкивая в плечо Платонова, точно тот не смог бы понять, что пора повернуться спиной, если бы ему сказать обыкновенным языком, Ермаков будет громко сопеть, выказывая неодобрение и осуждение тому, что делается внутри Платонова, а сам Платонов будет поворачиваться, задерживать дыхание, дышать и опять не дышать и, как всегда, думать о том, как неловко чувствуешь себя на осмотре у врача: точно на экзамене, стой, руки по швам, быстро отвечай на вопросы - и вот-вот ты провалишься и схватишь позорный "неуд".
- Одевайтесь! - скажет в конце концов Ермаков и тяжело, насколько это возможно при его тщедушном теле, опустится в кресло. - Курить хотите? Ну, еще бы! Худшая распущенность! - и закурит сам. - А еще учитель! Других учите, а сам? Много вы прислушивались к моим полезным советам? А? И очень напрасно! Вот я тоже не прислушивался, а что получилось? Едва дотягиваю до конца приема!