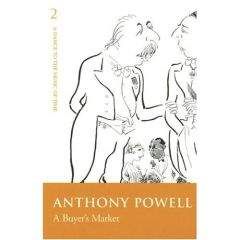Итак, эту осень, длинную, несносную осень я проведу в приятном обществе моего достопочтенного самолюбия. От этого намерения уже не откажусь ни под каким видом! Советую и вам последовать моему примеру: увидите! — не приметите даже того, что на дворе слякоть и что в деревне нет хлеба на посев. Покойник Стерн[11], который отнюдь не был глуп, услаждал таким образом свое горе: под конец жизни он читал только собственные свои сочинения, чтоб иметь дело исключительно с одним своим самолюбием. Станемте и мы читать только собственные свои сочинения и будемте умны и счастливы, как Стерн!
Что касается до меня, то я сейчас сажусь читать свои сочинения. И чтобы вполне упоиться сладостью этого небесного занятия, начну с рукописных моих трудов, которых никто еще не знает, кроме меня и моего самолюбия. Вот толстая тетрадь, в которой заключается полное описание моей жизни. Она вся написана карандашом; я так пишу все биографии великих людей, особенно моих приятелей, чтобы потомство, истерши локтем многие места, не могло разобрать всего, что было написано, и имело лестное понятие о моих связях и нашем веке. Она разделена на восемь глав, соответственно восьми классам табели о рангах[12], пройденным мною в течение земного моего существования, которое все еще течет по капельке, и составляющим великие исторические его эпохи. В первой главе описываются происшествия, случившиеся со мною в то время, когда я числился в 14-м классе. Глава вторая посвящена деяниям моим в пределах 12-го класса; третья изображает похождения мои в 10-м классе; четвертая в 9-м, пятая в 8-м и так далее. Это самое простое, ясное, перстом самой природы указываемое разделение жизнеописания смертного, но чиновного человека. Удивительно, что доселе не сказано о том ни слова ни в одной нашей риторике!
Но это посторонний вопрос. Дело в том, что я беру в руки мое сочинение, буду читать его вдвоем с моим самолюбием и буду доволен собою. Кроме того, что оно плод собственного моего пера, мое дитя, моя радость, жизнеописание такого странного, как я, человека не чуждо занимательности и другого рода: я видел много глупостей и сам сделал их много...
Мы упомянули о глупостях: я полагаю, что мое сочинение было бы очень занимательно и для вас, моих любезных ближних. Один английский философ — я знаю, который именно, — опровергая мнение Платона, утверждавшего, что человек есть простое двуножное животное без перьев[13], доказывал, что в таком случае нет никакого различия между герцогом Дивонширом[14] и ощипанною индейкою и что гораздо свойственнее определить человека тем, что он единственное в природе животное, которое стряпает свою пищу на огне. Но я не согласен с этим определением: следственно, островитяне Тихого океана, выучившиеся от европейцев высекать огонь и делать спички, с тех только пор начали быть людьми, как скушали первый ломтик бифстеку?.. Какое лжемудрие! У меня есть своя философия, гораздо прочнее английской, и я определяю человека со стороны его характеристической и одному ему принадлежащей страсти. Человек, говорю я, есть то особенное, единственное в природе животное, которого главная забава состоит в том, чтоб тешиться глупостями своего рода. Прошу теперь не делать никаких возражений на мой афоризм: вы будете опровергать его, как воротитесь домой из театра или когда кончите разговор о ваших приятелях. До того времени я буду почитать эту истину за доказанную и, убедив вас столь блистательным образом, что для существования в качестве настоящих людей глупости несравненно нужнее вам каши, бифстеку и всей кухни, смею льстить себя мыслию, что могу быть вам полезным моим жизнеописанием.
Я уже вижу, как в глазах ваших возжигается великолепный огонь радости при одном предложении уступить вам, для вашей забавы, богатый клад человеческих нелепостей; вижу, как вы бросаете карты, бумаги, бутылки, любовь, честолюбие, происки и все дорогое сердцу, чтоб расхватать поодиначке несообразности и причуды моей жизни, чтоб повеселиться, приятно потрясти свои губы, роскошно покачать нервы глупостями моими и еще нескольких бедных существ, имеющих честь вместе со мною принадлежать вашему роду. Потише! не торопитесь!.. Я тоже человек, тоже люблю глупости, особенно мои собственные и лично мною подобранные на свете. Мы можем дружески поделиться ими: это другое дело! — но лишить меня всего их сокровища, вырвать у меня все мое жизнеописание, весь ящик моих и приятельских глупостей, было бы с вашей стороны бесчеловечно.
И если даже соглашусь предоставить известную часть моего собрания глупостей в ваше распоряжение, то не отдам ее даром: вы должны прочитать за то мое предисловие. Я знаю, что вы не любите читать предисловий и всегда пропускаете их при чтении книг; потому я прибегнул к хитрости и решился запрятать его в эту статью. Сделайте милость, прочитайте его со вниманием. Без предисловия теперь никакая глупость не выходит в свет, и добросовестный читатель непременно обязан пожертвовать частицей своего терпения в пользу этих литературных прокламаций: это единственный чистый доход авторского самолюбия.
Вот мое предисловие.
Величайшая глупость, какую сделал я в своей жизни, была отлучка моя из отечества, чтоб путешествовать в чужих краях. Первое путешествие предпринял я случайно: вы узнаете, по какому поводу; но, будучи однажды за границею, я уже не хотел возвращаться домой и странствовал бесконечно. Я посетил четыре части света, объехал вокруг всю землю, был в Швеции и Голконде[15], во Франции и Камчатке, в Царьграде и Вашингтоне; видел все, что только есть любопытного и достойного внимания в мире, — словом, китайцев, пирамиды и обезьян; видел голых людей и живых сельдей, кенгуру и английских миссионеров; даже видел, как растет кофе, чай, сахар и ром. Фивская Мемнонова статуя[16], некогда гордо возвышавшаяся среди пышной и многолюдной столицы, удивлявшая древних мудрецов и героев волшебными звуками, которые производил в ней первый луч восходящего солнца, — я видел ее торчащею уединенно в деревенском ячмене и смотрел на великого завоевателя, Мемнона, исправляющего полезную должность пугалы воробьев XIX века, как теперь смотрю на моих кредиторов — с равнодушным любопытством. Гелиопольский обелиск[17], который кто-то из наших знакомцев высокопарно назвал «могучим лучом солнца, зароненным в пустыню»,— я этот могучий луч солнца видел просто в картофеле! И подобных лучей видел я по крайней мере три десятка, хотя о том не говорю ни слова.
Зевая на природу и искусство, съедая с аппетитом жареных щенков и парадоксов, закусывая шарó[18] и бананами, запивая мадерою, перевезенною восемь раз через экватор, какой не пивал и сам Гумбольдт[19], прусский камергер и всемирный ученый; варя щи вместо дров на мумиях министров и любовниц великого Фараона, я путешествовал фантастически — иначе путешествовать я не умею, — бродил кругом света, по свету и под светом; старался видеть все и наблюдал все, что видел; делал открытия, стряпал замечания, изучал людей, изучал мужчин и женщин и был уверен, что путешествую для образования своего ума и сердца. Подписав кучу векселей на всех возможных языках и наречиях, я, наконец, отправился домой, на родину, с утешительною мыслию, что теперь прекрасно знаю людей и что мой ум и мое сердце образованы превосходно. Прибыв в Торопецкий уезд[20], я представил батюшке счет издержкам на изучение людей; он заметил мне со вздохом, что, сколько он знает, в людях нет ничего такого, что бы стоило и половины этих денег, и что, верно, они меня обманули. Относительно к уму, старая тетушка, которой пожал я руку сильно, по английски, сказала, что я дурак, а в рассуждении сердца первая моя на Руси любовница, которой не купил я турецкой шали по неимению денег, объявила, что я жестокосердый. У нас всегда так судят о молодых людях с высшим образованием! Я поехал в Петербург.
Замечание доброго и умного родителя огорчало и мучило меня всю дорогу. В Боровичах, на станции, расплатившись с смотрителем, я посчитался с совестью, и когда подвел все итоги моего знания людей, вышло, что в самом деле они меня надули: вместо изучения людей, которые никак не даются проникнуть себя другим людям, я изучил только длинный список людским глупостям обоего пола!.. Право, незачем было ездить за границу.
Я решился не сказывать никому о том, что знаю человека.
Но путешествие совершено, глупость сделана — что, конечно, обрадует вас чрезвычайно, — и для общей нашей потехи я готов уделить вам три отрывка моей глупости. Я говорю — отрывка, потому что сами вы умные люди и знаете, что мы живем в отрывочном веке. Прошло время, когда человек жил восемьдесят лет сплошь одною жизнию и думал одною длинною мыслию сплошь восемнадцать томов. Теперь наши жизнь, ум и сердце составлены из мелких, пестрых, бессвязных отрывков — и оно гораздо лучше, разнообразнее, приятнее для глаз и даже дешевле. Мы думаем отрывками, существуем в отрывках и рассыплемся в отрывки. Потому и я не могу выпускать моего жизнеописания иначе, как в этом виде: в наше время даже и глупости выдаются свету, на его потребности, только отрывками, хотя иногда довольно значительными. Надо шествовать с веком!