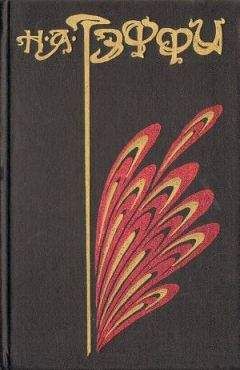Теперь не то.
Когда пошло мое дело, мне сразу сказали, что нужно этому самому Байрону взятку дать.
Пришел я к нему в самом деловом настроении. Думаю только об одном, что ему предложить: сразу ли заплатить или в деле заинтересовать. Если сразу заплатить — это очень человека вдохновляет. Если заинтересовать — дает ему продолжительную энергию. Тут, значит, нужно предварительно ознакомиться с психологией данного взяточника. Если он рохля, человек инертный, которого трудно понять и сдвинуть с места, тогда нужно взбодрить его немедленно хорошим кушем. Это его сразу поставит на рельсы а там уж он пойдет.
Если же он человек расчетливый и работящий, то, дав ему деньги сразу, только поколеблете в нем доверие к вам и к вашему делу.
Вот, погруженный в эти самые размышления, и прихожу я к Байрону.
А он сидит, бледный, вдохновенный, и читает «Песнь Песней».
Посмотрел на меня и прочел:
— «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя».
Я сел — дожидаюсь, пусть сам заговорит. А он опять посмотрел и говорит:
— «Мирровый пучек, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает».
«Нет, — думаю, — придется его сразу кушем взбодрить». Однако жду, пусть сам заговорит.
Помолчали. Наконец, он вздохнул и сказал:
— Как вы думаете, — я давно хотел спросить у вас…
— Начинается! Начинается! — встрепенулся я.
— Хотел спросить: не был ли Соломон предчувствием Ницше?
— Чего-с?
— Я, например, считаю руны о Валкирии, во всех их разногранностях, только предчувствием ибсеновской женщины положительного типа, всякой, как таковой.
— Н-да, — отвечаю, — разумеется.
А у самого сердце захолонуло.
«А ну, — думаю, — как мне наврали, да он взяток совсем не берет».
И пошло с тех пор мое мучение; хожу целые дни и гадаю, как Маргарита на цветке ромашки: берет — не берет, берет — не берет…
А он меня, между тем, стал Гамсуном донимать.
Раз даже нарочно заехал ко мне справиться, понимал ли я когда-нибудь запах снега.
Истомил меня вконец. Уж хотел, было, бросить все и искать других путей. Вдруг, в один прекрасный день, приезжает он ко мне какой-то взвинченный, глаза сверкают.
Еще из передней кричит:
— Разве литература учит нас? Нас учит жизнь, а не литература.
Потом попросил коньяку и сказал:
— Как вы думаете: имеют ли право великие люди на пути к высоким целям останавливаться перед маленькими гадостями?
Я молчу, слушаю.
— Например, представьте себе следующее: я могу оказать гигантскую услугу всему человечеству, если достигну своей цели, но для этого мне надо взять взятку в двадцать тысяч и быть заинтересованным в деле, как участник, в пятнадцати процентах. Неужели же я должен отказаться от этого?
— Это вы, — кричу я, — да вы прямо морального права на это не имеете. Даже если бы вам дали только двенадцать тысяч вперед, и то, по-моему, долг перед человечеством…
— Нет, двенадцать — это мало! — вдохновенно воскликнул он. — Не меньше семнадцати.
— Лучше увеличить процент участия в деле, — это будет удобнее… для человечества…
Торговались мы с ним долго и смачно. Наконец, сошлись.
Пряча выторгованные деньги в бумажник, украшенный головой химеры с церкви Notre-Dame, он выпрямился во весь рост, и вдохновенно-томное лицо его так походило в эту минуту на лицо Байрона, что мне даже как-то неловко стало.
На другой день, встретив меня в министерстве, он уже весь был поглощен вопросом о дунканизме и далькрозизме, и я, глядя на него, думал:
— Какой нелепый сон приснился мне вчера! Будто пришел ко мне сам Байрон, выторговал у меня лишний процент и взял взятку спокойно и деловито, как пчела с медоносно цветущего злака.
И как же это так было, когда этого не может быть?
Кто-то выдумал, будто русские не любят говорить речи. На Западе, мол, где так развита общественная жизнь, каждый гражданин — прирожденный оратор.
Увы! Это — неправда. Русский человек очень любит говорить — не разговаривать, а именно говорить, а чтобы другие слушали.
Позовите какого-нибудь маляра, столяра, обойщика, спросите у него что-нибудь самое простое.
— Сколько, голубчик, возьмете вы с меня, чтобы приклеить эту сломанную ножку?
Если вы думаете, что он вам ответит цифрой, вы очень ошибаетесь.
Он заложит руку за борт пиджака, повернется в профиль или в три четверти — как выгоднее для его красоты, — и начнет громко, веско, с красивыми модуляциями, повышениями и понижениями, следующую речь:
— Это, ежели к примеру сказать, как вам требуется выполнить работу, к примеру скажем, приклеить ножку, или, например, там что другое, починка или прочее, то, конечно, надо понимать, что ведь, уж ежели делать браться, так нужно хорошо, а если худо, так уж это и нечего, и браться, значит, лучше не надо, потому что лучше совсем не берись, чем браться, да не сделать, потому с нашего брата тоже требуется…
Если вы не прервете его, то он будет говорить до полного истощения своих и ваших сил.
Никогда не допускайте человека «говорить». Пусть он разговаривает — и только.
Иной человек, дельный и толковый, ведет с вами интересный разговор, отвечает по существу и вопросы задает умные — словом, разговаривает себе и вам на пользу, и окружающим на утешение, но достаточно вам постучать о стакан ножиком и сказать:
— Послушайте, господа, какие интересные мысли высказывает Евгений Андреевич по поводу сегодняшней пьесы.
И кончено. Евгений Андреевич моментально сорвется с цепи. Он уже не разговаривает — он говорит. Он уже не собеседник — он оратор.
Он вскочит с места, покраснеет, заволнуется, извинится и понесет околесину:
— Милостивые государи и милостивые государыни. Я, конечно, не оратор, но отношение современного общества к древнему искусству… т. е. древнего искусства к современному обществу…
Словом, он для вас пропал. Он будет болтать, пока не иссякнет, а затем весь вечер просидит в углу сконфуженный и будет припоминать, сколько он сказал неудачных фраз, и мучиться стыдом и раскаянием.
Из сострадания к нему самому не надо было позволять ему говорить.
Но хуже всего, если вы соберетесь потолковать о каком-нибудь важном деле и начнете обсуждать его систематически, соблюдая очередь в высказываемых мнениях.
Сначала, когда все галдят сразу, еще можно что-нибудь понять и до чего-нибудь договориться.
— Послушайте, — орет один. — По-моему, лучше всего устроить благотворительный спектакль.
— Надоели ваши спектакли. Просто у вас, верно, пьеса залежалась, так вот и хотите пристроить! — кричит другой.
— Концерт! Концерт лучше устроить.
— Просто устроить сбор в пользу какой-нибудь весенней лилии! — надрывается четвертый.
Это ничего, что все они кричат зараз и все разное. В конце концов, они все-таки до чего-нибудь докричатся.
Настоящая же беда будет только тогда, когда кто-нибудь вдруг предложит:
— Позвольте, господа, нельзя всем говорить сразу. Назначим очередь. Я запишу желающих высказаться.
Он запишет.
Первым встанет Иван Петрович, который только что так мило-оживленно и толково предлагал устроить сбор в пользу цветка.
Теперь он будет тянуть, сам не зная, что, мучиться, сам не зная, за что, и все будет стараться, во что бы то ни стало, закруглить фразу:
— Милостивые государи и милостивые государыни, — скажет он, если даже среди присутствующих не найдется ни одной дамы. — Мы собрались под этой гостеприимной кровлей для обсуждения… мм-мя… мм-мя… интересного для нас вопроса…
Все, конечно, сами знают, для чего собрались, но все понимают, что раз он записан и говорит в очередь, то он уже не человек, а оратор, и от него все нужно стерпеть.
— Так что же, господа, — спросит какая-нибудь простая душа, когда оратор смолкнет, — концерт мы устраиваем или спектакль?
— Позвольте, теперь очередь Сергея Аркадьевича.
Сергей Аркадьевич встанет и приступит прямо к делу:
— Милостивые государи и милостивые государыни. Для того, чтобы уяснить себе вопрос благотворительности, мы должны осветить его историческим фонарем. Пойдем смело в глубь веков и спросим тень мм-мя… мм-мя… тень Муция Сцеволы и мм-мя… мм-мя… Марка Аврелия…
Когда они будут расходиться по домам, вспотевшие, утомленные, охрипшие и увядшие, кто-нибудь, самый добросовестный, спросит просто:
— Ну, а как же, господа, быть насчет концерта? Устраивать, или лучше спектакль?
— Да как вам сказать, — ответят равнодушно другие ораторы, — можно и концерт, можно и спектакль. Посмотрим, каких артистов легче будет достать.
И тень Марка Аврелия кротко улыбнется из глубины веков.