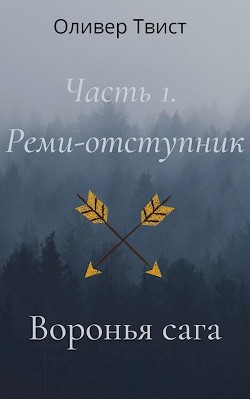осторожно взбивали его, пока мир не покажется из первичного бульона и люди не восстанут от великого сна. Налью себе молока и буду слушать, как барабанит по цинковой кровле дождь, потом почувствую, как приятная белая жидкость разливается по моему организму, и вольюсь в сон. Ну а сперма? Ведь это молоко мужчин, разве нет? Называют же молоками семенные железы рыб, которые развлекаются с подругами в воде. Подумать только, что этот полоумный Хомейни целую книгу посвятил советам, как очищаться после семяизвержения, и проклятиям в адрес бедняг, которые после поспешного соития обронили пару капель в песок, и погонщиков верблюдов за стенами из самана. Откуда вообще взяться какому-то духовному порыву у этих верующих, когда они зажаты в запретах и предписаниях, как в тисках? Да веруют ли вообще сами их законники? Лучше найду, что писал Малек Шебель о любовных утехах в исламе. Схожу завтра куплю его книгу, если дождь поутихнет. Еще десять минут, и зазвенит будильник, а я так и не собрался с духом налить этого чертова молока, а дождь уже вымыл ночь и полощет теперь рассвет, ни на секунду не прекращаясь, а рядом Марианна спит чудным сном, и с первым звонком будильника она повернется, обнимет меня одной рукой и спросит, как прошла ночь.
– Как прошла ночь, дорогой?
– Прекрасно, дорогая, как и всегда, когда ты рядом… я люблю тебя, и с тобой мне спокойно.
To muse, to creep, to halt at will, to gaze [18].
Уильям Вордсворт. В экипаже на берегах Рейна
Применимы ли законы термодинамики к прогулкам? «Если при механическом трении двух тел выделяется тепло, то при ходьбе должны неизбежно рождаться идеи». Он выходил на авеню Марсо из квартиры, которую снимал у одной нью-йоркской резчицы, чьи наборы микадо из берцовых костей с обсидиановыми инкрустациями пользовались в Париже успехом, и шел скрести по сусекам черепной коробки: часами шагал, не сворачивая, и ждал, когда физические усилия подготовят плодородную почву для разума. Ему часто доводилось проверять свою формулу. Так, на берегу Тибра в Риме у него возникла идея предисловия к книге о бенинских масках: нужно только поплясать вокруг сто девятнадцатого пункта «Смешанных мнений и изречений» Ницше, где он определяет эстетику как «радость от понимания, что хотел сказать другой». В Ангкоре он целый день бродил по руинам храма Байон, пытаясь нащупать сюжет для рассказа, который заказал ему New Yorker, и к вечеру сюжет пришел: история любви расхитителя храма и кхмерской танцовщицы, которая умоляет возлюбленного не увозить в Париж резную балюстраду XII века с кобрами, на которой они предавались любви. Помнил он и как блуждал по бульварам в Риге, запасаясь впечатлениями от фасадов в местном югендстиле, из которых главный редактор просил составить «современное и живое полотно».
В этот раз Джек вышел рано и уже полтора часа брел по набережной на правом берегу Сены в сторону Сите. Под мостом Согласия учитель вещал перед учениками, стоя на широком парапете:
– Есть ли, дети, в среде вас тот…
Джек, не останавливаясь, в полный голос:
– Среди вас, дети, правильно – «среди»…
Парень огрызнулся:
– Не лезь не в мое дело, шут!
Дети засмеялись. Жуть какая, эти французские учителя.
Завтра он должен был сдать рассказ в один престижный лондонский журнал, собирающий под глянцевой обложкой репортажи о флорентийских дворцах, снимки мексиканских лофтов и рассказы писателей с клеймом «европейцев» или «космополитов», летающих бизнес-классом и печатающихся в Нью-Йорке. Это был первый заказ за сентябрь, и Джек был на мели. Последние десять лет он публиковался в англосаксонских ежеквартальниках, а раз в два года выдавал своему бостонскому издателю новый роман с любовными многоугольниками, холодными сердцами и кучей разговоров, которые американская критика, как правило, считала «слишком французскими». Кусая губы, он миновал пешеходный мост Сенгора. Черные решетки-дуги моста Искусств скакали через реку по шести светлым опорам.
Иногда по грязной воде Сены чертил след катер речной полиции. Волны шлепками взбивали воду у каменных стен, беспокоя уток. Джек вспомнил какой-то детектив – Эллроя, что ли, – где самое страшное оскорбление, какое американские копы бросали друг другу: «Парень, ты кончишь в речной полиции Солт-Лейк-Сити». В Париже «речные» выглядели скорее простыми мужиками. Их черные «зодиаки» были пришвартованы под Аустерлицким мостом, и Джек прежде частенько проходил мимо по пути в зверинец Сада растений, – тем летом, когда писал для одного тосканского издателя текст про европейские зоопарки.
Люди проходили под плакучими ивами. Медленней всех – пары. Некоторые сплелись руками, не в силах расцепиться: придет день, и они разойдутся, притом с жестокой драмой. Осень покрыла город медью. Солнце скользило по крыше музея Орсе: один луч потух на подпорках. Деревья искрились. Сена змеилась, и ее призрачно-серая кожа поблескивала колчедановыми всполохами. Селезни отливали малахитом. Эти птицы всегда роскошны, разодеты как султаны. Мир меняется, но свет все так же сходит на Париж как благодать, и парижане твердо уверены: ничто не сравнится с часовой прогулкой по набережным их реки. Бегуны нарабатывали кредит в несколько километров, чтобы вечером лопать сочные сосиски со спокойной душой. У некоторых была гримаса страстотерпцев и ноги слушались их с трудом. Бег – невроз общества, стоящего на месте.
На мосту Искусств целовались туристы, следуя рекомендациям путеводителей Lonely Planet [19]. Джек был бы рад шагать сейчас рядом с Марианной. Но эта дрянь так и не перезвонила. Они познакомились три дня назад, на открытии фотовыставки Флорины де Лапьяс. На снимках 3×4 открывались виды на пустые, освещенные здания: стеклянные гробы. Окна офисов горели в ночи как белые рубцы. Марианна была подругой Флорины. Она стояла рядом с Джеком перед снимком Бангкока, и Джек заговорил:
– Вас это не угнетает?
– Что? – спросила она.
– Что мы живем в больницах.
– Шалаши предпочитаете?
– Эти города напоминают госпитали, а мы в них – больные.
– Я лично в порядке, – сказала она.
– Так говорят самые безнадежные пациенты.
– Вы проповедник?
– Почему?
– Говорите, как они. Им скажешь, что не веришь в дьявола, а они: «Он в вас!»
– Нет, я не проповедник, я Джек.
– Марианна.
Он с чудовищным трудом добыл ей бокал шампанского, и они целый час проговорили в закутке, где никто не мог их потревожить. Ее лицо показалось Джеку совершенно парижским: маленький острый нос, черные волосы до плеч, подвижные глаза, в которых сквозь грусть пробивались циничные искорки. Лань с сердцем гиены. Она спросила, откуда он. Джек сказал: «Из Нью-Йорка», потому что в Париже никто не знает Делавэр. «Вы тоже