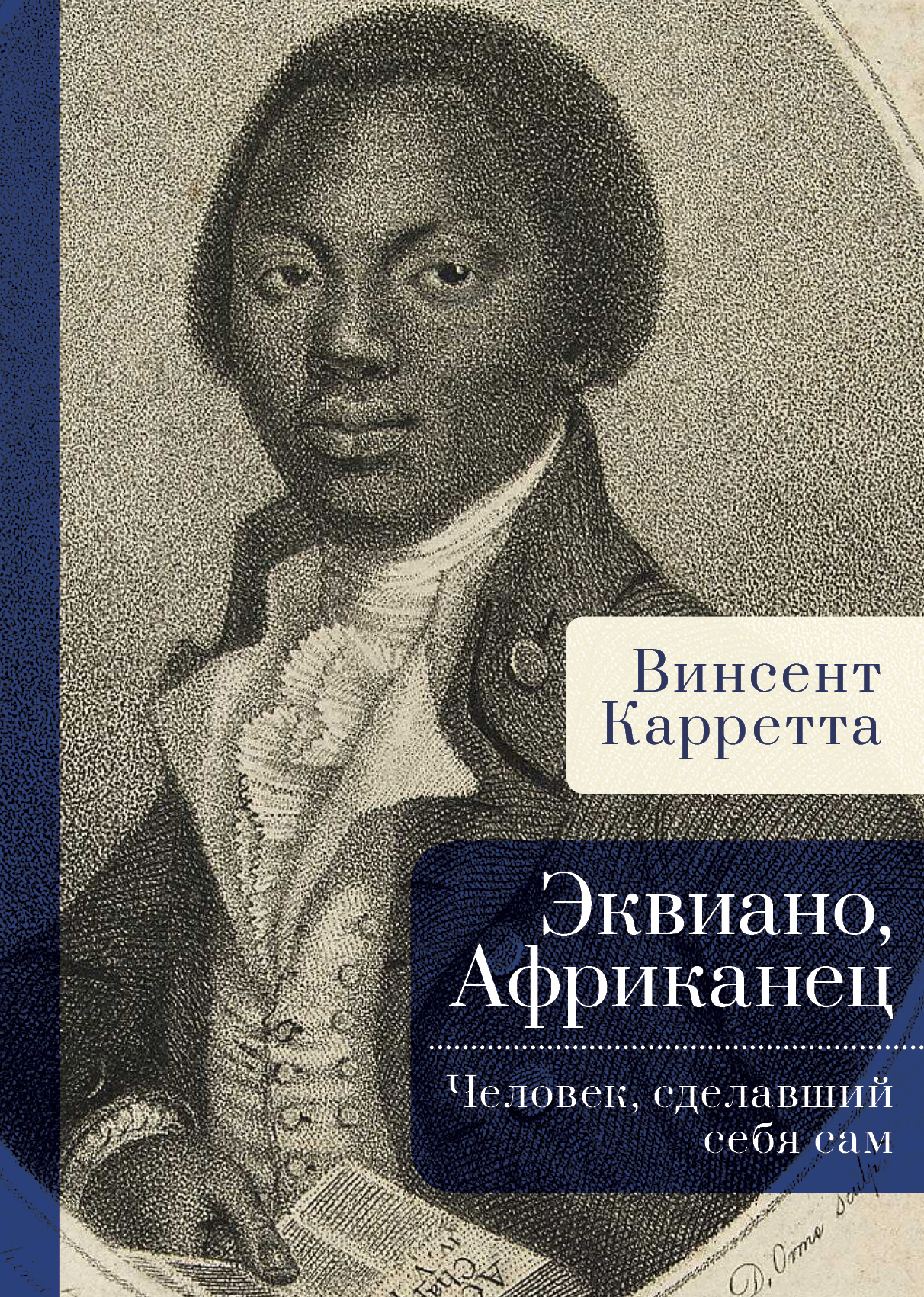не становится такой же белой, как прежде. Все это время мое сердце бешено колотится, и я слышу его в своих ушах, потому что я понимал, что Кайла говорила. Я знал.
Я люблю тебя, Джоджо. Почему ты заставляешь меня, Джоджо? Джоджо! Брат! Брат.
Я слышал ее.
Я несколько часов пытаюсь заснуть, но не могу. Остается только лежать и слушать дыхание Кайлы. За окном, где-то далеко в темной чаще леса, лает собака. Прерывистый звук, полный злости и острых зубов. В основе всего страх. Когда я был младше, я хотел щенка. Я просил Па, но он сказал, что с тех пор, как работал в Парчмане, не может завести собаку. Он рассказал, что пытался, когда его выпустили. Однако каждая из собак, что он заводил, дворняг или гончих, умирала уже в первый год. Когда он был в Парчмане, рассказывал Па, с тех пор как он начал работать с гончими, которых тюрьма использовала для преследования беглецов, единственным, что он чувствовал, когда ел, ходил или проваливался в сон, был запах собачьего дерьма. И слышал он лишь собак – их визги, вой и лай, их жажду крови. Па говорил, что пытался приучить Ричи работать с собаками, чтобы вытащить его с полей, но у него не вышло. Я закрываю глаза и представляю Па, сидящего на высоком стуле в углу комнаты. С прямой спиной и кряжистыми руками, он рассказывает мне истории, чтобы я поскорее заснул.
Был один из тех дней, когда солнце палит так сильно, что кажется, будто оно выворачивает тебя наизнанку и ты просто горишь. Тяжелый день. Здесь-то все по-другому: у нас постоянно дует ветер с воды, и это облегчает жизнь. А там, на севере, такого нет – там только бесконечные поля, деревья низкие, листьев мало, хорошей тени не сыщешь, и все, что есть на свете, сгибается под тяжестью этого солнца: мужчины, женщины, мулы, все, что есть живого под Богом. Вот в такой день пацан сломал свою мотыгу.
Я не думаю, что он нарочно. Он был худосочный, мельче тебя, я уже говорил тебе об этом, так что он, должно быть, ударил ей о камень или надавил на мотыгу как-то не так, и вот как вышло. Кинни заставил меня гонять собак по полям, работать над их обонянием. Я обходил поле Ричи, когда увидел, как он идет с двумя обломками в руках, просто таща рукоятку по земле, оставляя за собой след, ведущий к полосе деревьев. Погонщик, который задавал темп работы на весь день, что-то вроде надсмотрщика, увидел Ричи. Он сидел на своем муле, смотрел пацану в спину и становился все более и более злым, словно змея, собирающаяся напасть. Я стал обходить поле так, чтобы подойти поближе к Ричи, и зашипел на него.
– Подыми рукоятку, пацан. Погонщик смотрит прямо на тебя, – сказал я.
– Он все одно меня будет бить, – сказал Ричи, но рукоятку поднял.
– Кто так сказал?
– Он и сказал.
Глаза у парня бегали, хоть он и шел так, будто не боялся. Следы, что я видел на нем, когда он только пришел в Парчман, говорили мне о том, что он знал, что такое, когда тебя бьют – мама ремнем с тяжелой пряжкой или какой-то мужик. Но я знал, что мальчик не был готов к кнуту. Я знал, что он не был готов к Черной Энни.
Я был прав. Солнце село, и после ужина сержант привязал его к столбам, установленным на краю лагеря. Там было так жарко, что казалось, будто солнце еще не зашло, и пацан лежал там, разведя в стороны руки и ноги на земле, привязанный к столбам. Когда кнут щелкнул в воздухе и ударил по его спине, он вскрикнул, словно щенок. Завизжал громко-громко. И все продолжал визжать. Вопил оглушительно от каждого удара, выгибаясь от земли, поворачивая голову, будто хотел взглянуть на небо. Кричал, как тонущая собака. Когда его развязали, его спина была вся в крови, все семь разрезов зияли, как на разделанной рыбе, и сержант приказал мне позаботиться о нем. Так что я привел его в порядок, пока он лежал и блевал, не поднимая лица из грязи. Я не велел ему остановиться. Сержант дал ему один день на выздоровление, но когда его вернули обратно в поле, удары на его спине и близко еще не успели зажить, и через рубашку сочилась кровь.
Я почти слышу Па в сумеречной комнате, которая кажется влажной и душной из-за горячей воды, которую я пустил, чтобы не было слышно блевавшей Кайлы и чтобы убрать после нее. Он усаживается поудобнее, опираясь на локти, и его голос поднимается из темноты, словно дым. Я отодвигаю волосы Кайлы с ее головы; она потеет. Всякий раз, когда Па рассказывал, как били Ричи, он рассказывал мне и о Кинни, его начальнике, отвечавшем за охотничьих собак, который сбежал на следующий день после того, как отделали спину Ричи.
Кинни Вагнер совершил свой последний побег в тот день. Это было в 1948 году. Просто вышел прямо через главные ворота Парчмана с пулеметом, который украл из оружейной. Главный смотритель был просто в ярости.
– Я буду выглядеть дураком, – сказал он, – если позволю этому засранцу сбежать в третий раз. Хочешь сохранить свою работу – молись, чтоб он тебе попался. Спускай собак, – сказал он сержанту.
Сержант посмотрел на меня, и я взял лучших из стаи: Топора, Рыжего, Заточку и Луну – имена им всем сам Кинни и дал, – и спустил их, и они стали рыскать. Но собаки не хотели выслеживать человека, который их кормил, того, кто к ним первым прикоснулся, того, кто их вырастил. Продолжали медленно и печально ходить кругами, петляя между призрачными деревьями под тяжелым небом, а я следовал за ними, отчетливо видя следы Кинни, но замедляясь из-за животных. В конце дня мне пришлось вернуться и сообщить сержанту, что собаки не могут найти своего хозяина.
Он с еще двумя сержантами и группой доверенных стрелков вышел со мной на следующий день, и все повторилось один в один. Гончие чуяли этого ублюдка, которого считали папой. Не могли напасть на него, потому что, когда они засыпали, он снился им, его большие красные руки и серый рот. Вонь, которая исходила от него из-за пота, была им также дорога, как запах ушей их матерей.
Вижу, что Леони не спала ночью. Она не заходила в комнату, а музыка утром все еще играет на стереосистеме Ала на кухне, и все трое выглядят помятыми: их одежда, их волосы, их лица. Леони смотрит на пустое кресло