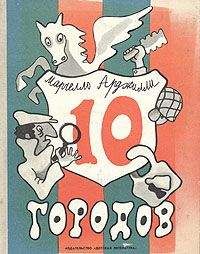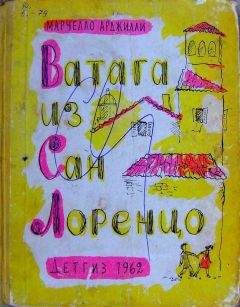обратилась выражением беспомощности и безграничной тоски. Он не сомневался- старушка оставила его, ушла навсегда и никогда не вернётся. Вольпино знал- она умерла.
В то мгновение пёс показался попугаю исхудавшим. Ссутуленное тельце его выглядело ослабленным, шерсть была в грязи, уши обмякли и повисли. Опустив голову, он удрученно смотрел перед собой из-под бровей и глубоко с тяжестью дышал. Проходящие мимо люди были незаметны вольпино, и всё вокруг, казалось, прекратило для него своё существование, всё померкло, обесцвеченное его горем.
Пёс закрыл глаза, зажмурил их, точно испытывая боль, и протяжно заскулил. Это был тихий стон, жалобный, точно плач осиротевшего щенка, беспомощного и напуганного. Трясясь мелкой дрожью, вольпино робко плакал над своим одиночеством, плакал украдкой, сдержанно, словно боялся, что его услышат; может, он боялся быть услышанным самим собой, боялся звука собственного страдания, отражающего ужас правды, которую постигало его сердце.
Мимо шли ноги в туфлях, брюки, юбки, сумки, портфели и авоськи. Мимо плачущего пса шли люди. Для них вольпино был всего лишь незначительной преградой на пути, не важнее, чем камень, или любой другой мелкий предмет, который можно обойти в два шага. Его тихий плач был им не слышен, как не были слышны множество уличных звуков живых и искусственных, смешанных суетой в одно целое, расчленять которое на «важное» и «неважное» ни у кого не было времени. Просто пёс сидел посреди тротуара, понурив голову, просто скулил. А почему? Просто потому, что собаки всегда сидят, где им вздумается, и никому не интересно, как они при этом держат голову и отчего скулят.
Вдруг, на вдохе, всхлипнув носом точно как человек, вольпино поднял голову вверх и громко, срывая голос на хрип, завыл.
По воздуху поплыла скорбная собачья песнь. Шаги прохожих стали медленнее; лица улицы обратились в сторону пса. Из кафе выглянули толстушка и двое недовольных шумом посетителей. В окнах и на балконах показались встревоженные жильцы.
– Что это с ним?
– Возможно бешенство.
– Не подходите близко!
– Надолго этот ужас? У нас дети спят!
– Собака-то в ошейнике. Где хозяин? Пусть его уймёт!
– Эй, кто там ближе, дайте ему пинка, и дело с концом!
Вольпино был безразличен к угрозам; он слишком страдал, чтобы их услышать. А люди, раздраженные этим безразличием, наращивали гнев и решали, что бы такого сделать с докучливым животным, чтобы остановить его рёв.
Самым бойким был лысый мужчина с красным морщинистым лицом, одетый в красный спортивный костюм и замшевые туфли неопределённого цвета, затёртые и стоптанные. Этот человек, внешне подобный измятому печеному перцу, кричал громче всех, подстрекая недовольных к действию. Он был из таких людей, которые злые по своей природе, без всяких на то причин, а при возникающем поводе жестоких особенно, нисколько не измеряющих силу собственной ярости. Марчелло сверху было хорошо видно, как он выделялся из толпы своей кричащей злобой, как нервно переступал из стороны в сторону, сжимая кулаки в остервенении. Человеку-перцу не терпелось, чтобы ситуация достигла пика, чтобы пса осадили, заставили его замолчать, если понадобиться ударили, подняли за шкирку и вытрясли из него дух.
Но люди только и делали, что возмущались. Если кому-то и хотелось пнуть завывающую собаку, то он всё равно бы на это не решился; сейчас он мог прогнать пса и стать героем-спасителем, а однажды ему обязательно припомнят эту жестокость и заклеймят позором навсегда. Поэтому-то люди лишь сердито махали руками, кричали и грозились, не рискуя отважиться на большее.
Человек-перец не был тем, кому важно, что о нём скажут. Температура его злости выросла до предела. Пока остальные раздумывали, он, раскалённый до пунцового цвета, сломал ветку дерева и двинулся с ней через толпу к вольпино. С руганью он растолкал стоящих зевак, выступив с палкой наперевес перед ничего не замечающим псом.
Какаду вскрикнул. Дверь позади вольпино распахнулась, и выбежавшая из неё женщина в одну секунду подхватила его на руки. Прижав пса к груди, она закрыла его рукой и оглядела толпу взглядом полным осуждения. В её растрёпанных, небрежно собранных волосах, в простом домашнем платье и глазах, вспухших от долгих слёз, читалось то же порождённое горем безразличие к себе, что было в вольпино. Пробудив бесстрашие, оно сделало его оружием этой женщины, исподволь вооружив её для защиты беспомощного существа, такого же несчастного, как и она сама.
Она не боялась толпы и человека, что стоял в ярости. Отнятая возможность выплеснуть злобу в физической расправе окончательно лишила его благоразумия, и накопленный яд уже начал переливаться потоком сквозь его зубы. Побагровев, человек-перец взорвался едкой бранью. Женщина даже не посмотрела на него, только крепче прижала к груди вольпино и без страха, повернувшись спиной, ушла.
Беда миновала. Дыша уже без волнения, но ещё напряженно, Марчелло смотрел в окна парадной дома напротив. За ними, беззвучно ступая по лестнице, оставленная возлюбленным женщина несла осиротевшего пса.
Прошло не больше минуты, и дверь квартиры на втором этаже поглотила обоих. Рассыпавшись по сторонам парами и отдельными людьми, исчезла толпа. Исчез вместе с ней и человек-перец. Быстро забыв нервозность недавних минут, улица вернулась к спокойному течению пасмурного дня. А к попугаю, которому не на что было отвлечься, снова стали приходить картины из будущего книжной истории. Марчелло сопротивлялся их появлению.
Что толку заглядывать наперед? А вдруг увидишь там то, о чём никогда не захотел бы узнать, или что-то, чего сильно желаешь. Если увидел, значит оно будет? Но если всё-таки оно не должно случиться, а ты его увидел в силу своей фантазии или страхов, то как забыть о том, что видел? Как жить, подозревая возможность, что оно произойдёт? Надеяться, что оно случится, или не случится? Каждый день ожидать развязки? Что делать, если ожидания превзойдут реальность? Сколько времени и нервов будет потрачено на пустые волнения, если реальность окажется вовсе не такой пугающей, как представлялось?
Лучше не заглядывать. Лучше не знать. Есть то, что есть, а то, что будет правильнее оставить нераскрытым до времени его наступления.
В комнате раздались голоса. Пятеро мужчин в серых комбинезонах во главе с Кьярой вошли и сразу же принялись снимать со стен картины, вытаскивать из шкафа и складывать в коробки книги, двигать и раскручивать мебель.
Кьяра ходила между ними и давала наставления. Очевидно, она была взволнована холодностью, с которой эти люди брались за её вещи, взволнована их спешкой, равнодушием к тому, что любимые её сердцем предметы покидают своё многолетнее пристанище без почестей, разобранными по частям, сброшенными в коробки. Безразличные к истории вещей руки наскоро развинчивали их гайки, выдёргивали из пазов полированные подлокотники, выкручивали ножки, снимали засаленными пальцами стеклянные дверцы, царапали картинные багеты, до скрипа перетягивая их верёвками. Они не могли