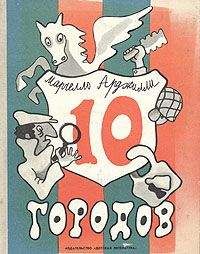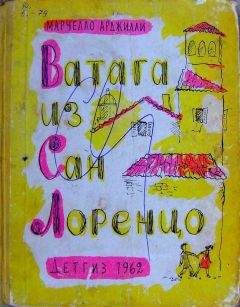иначе; они не умели. Женщина это понимала. А ещё она понимала, что без этого не обойдётся. Движение к новому требовало перелома. Лука и она и всё, чему должно было переместиться вместе из старой жизни в новую, несомненно, должны были пройти через перелом.
Внутренняя борьба Кьяры была её переломом, человеческим. Для отправляющихся в новый дом предметов её старой квартиры этим переломом стали холод чужих рук, разъединение, тугой скрипучий ход резьбы винтов, застоявшихся за годы бездействия. Всему, что приросло к прошлому, пришлось пережить сотрясение, чтобы двинуться в будущее. Изжившее себя разрушалось, крошилось и рвалось, но крепкое выстаивало и отправлялось в путь.
Людей в комбинезонах верно ждали где-то ещё- они работали в спешке. Стены комнаты быстро опустели. На них остались лишь обои с яркими, нетронутыми солнцем квадратами от картин, чёрные шляпки гвоздей и розетки, которые как глаза, смотрели с четырёх сторон, удивлённые происходящим.
Первым из мебели комнату покинул канапе; покинул её по частям, расчленённый и завернутый в пупырчатую плёнку. От стола сначала вынесли тяжёлые резные ножки, а полированную столешницу позже и только после того, как укутали её в одеяло- на этом настояла Кьяра. Шкаф вынесли целиком, но без дверей. Те последовали за ним в руках двоих мужчин, которых хозяйка не поленилась сопровождать по лестнице на улицу до грузового автомобиля, где непрестанно призывала их к аккуратности, пока хрупкий груз наконец не уложили так, как она требовала. Следующими отбыли книги в большой картонной коробке, в соседстве со статуэтками, коллекцией значков и разной мелочью. Оставив потолочному патрону одну из своих лампочек, отбыла люстра. Последним, без всяких церемоний вынесли ковёр.
Затем люди в комбинезонах собрали в ящик инструменты и ушли, закрыв за собой дверь.
В комнате не осталось ничего, кроме клетки попугая.
О нём забыли? Марчелло прислушался.
Голос Кьяры говорил с кем-то на улице. Потом он смолк на пару минут и зазвучал в коридоре квартиры, потом плавно перетёк в комнаты, опять вернулся в коридор к двери, громко поспорил с голосом Луки и вновь удалился.
Стало тихо.
Какаду поднял глаза к потолку. Одинокая лампочка на кривом проводе выгнуто отобразила на себе пустоту.
Так и есть: о попугае забыли. Всё случилось, как он и предполагал. И совсем неудивительно, что так вышло. Пока он молча наблюдал, суета сделала своё дело. Ему не придётся возвращаться к постылым монстерам и мёртвой тишине. Он останется здесь, будет слушать жизнь города, смотреть на неё, будет о ней думать, чувствовать её, познавать её смысл в ночных видениях. Потому что он ведь этого и желал. Он не хотел возвращаться в маленькую квартирку на тихой улице. И вот он остался здесь. Он хотел, чтобы окно не закрывали. Вот оно, открытое. Он хотел, чтобы о нём забыли? Случилось, его забыли.
Это, последнее, кольнуло какаду. Как так, запросто, только потому, что не стал о себе напоминать, он оказался забытым? Люстра тоже не произносила ни звука и не вертелась перед глазами, однако о ней помнили и взяли с собой, а его не взяли. Потому что о нём не вспомнили?
Марчелло стало не по себе. Одиноким он был и раньше и знал, как с этим жить, но ненужным почувствовал себя впервые и не понимал, каким средством справиться с тем, что испытывал.
Немедленно, пока не успел испугаться нарастающего неприятного чувства, попугай начал искать ему объяснение, и нашёл, а вернее сказать, сложил из последовательности своих умозаключений. С присущей ему врождённой прямотой Марчелло вывел, что ненужность его закономерна и объясняется просто: он- какаду, который не может быть полезным, не может взять за руку, не может улыбаться, не поёт песен, как прочие птицы, и даже не говорит, потому что голос его скрипучий. Всякий из взятых в новую жизнь предметов для чего-то да нужен: от люстры есть свет, шкаф хранит книги, картины украшают дом. А Марчелло только живёт. Какой с него толк?!
От этих мыслей какаду стало ещё неприятнее.
Мир двигался. Люди жили в его круговороте, встречались, ели мороженое, лодки плыли по морям, в небе летали птицы, шли дожди, ковры и диваны перемещались из квартир в грузовики. А попугай всего лишь существовал, как одна из четырёх стен комнаты, глазеющая розетками на происходящие события, но никак в них не участвующая.
В Марчелло вспыхнул гнев.
Нет, он- не стена! Он больше, чем вещь, больше, чем бездушная люстра или диван! Он живой, думающий, чувствующий и нужный ничуть не меньше, чем предметы и люди. Конечно, Марчелло не освещает комнату, на него не присядешь отдохнуть, и нужных слов он сказать не умеет. Всё так. Но он может другое.
Его мысли способны менять цвет неба и рисовать из облаков. У его чувств есть волшебная сила сближать людей.
И пусть он никогда не был у штурвала, он не боится волн моря и умеет спасать корабли от чудовищ.
Да, он молчалив, но он умеет слушать. За шумом дождей он слышит стук сердец и видит многое, когда другие, скрываясь от непогоды, не хотят смотреть в свои окна.
Он не просто попугай. Он был в книге, был в ней человеком, пережил человеческую судьбу; ему хватило на это мужества!
И он не безголосый и может петь, как не поёт ни одна другая птица! Скрипучий и неприятный снаружи его голос внутри совсем другой. Песни его льются прекрасными трелями и, даже если они не слышны остальным, они есть, они звучат в его душе. Может быть однажды, когда-нибудь, кто-то услышит их, и узнает, какой он- Марчелло- попугай из маленькой квартирки на тихой улице, какаду, живущий в клетке.
– Это была последняя коробка, Кики, надо ехать. Ты ничего не забыла?– произнёс за дверью голос Луки.
– Нет, не забыла, едем,– ответил голос Кьяры.
Было слышно, как из глубины квартиры в коридор прошли шаги, лязгнула звоном связка ключей. Сердце какаду дрогнуло.
Неожиданно в комнату вошла Кьяра.
–Теперь самое главное,– сказала она, направляясь к обомлевшему Марчелло.
Лука стоял в дверном проёме, опершись плечом на косяк:
– Как думаешь, парень понимает, что происходит?– спросил он.
Вопрос заставил Кьяру остановиться. Сложив руки на груди, она вдумчиво посмотрела на попугая, приподняла брови, словно услышав нечто спорное в своих мыслях, а потом сказала:
– Я и сама ещё не поняла.
Она произнесла это почти шепотом. Это был даже не ответ, а вырвавшееся вслух размышление, непредназначенное никому, кроме неё самой, кроме её сознания.
– Сегодня мне понятно только одно,– взгляд Кьяры оживился,– Всё так удачно и быстро сложилось, всё так складно выстроилось для этой перемены, что иначе, как правильной она не может быть никакой другой. Думая о ней, я волнуюсь, и даже боюсь её, но всё равно,