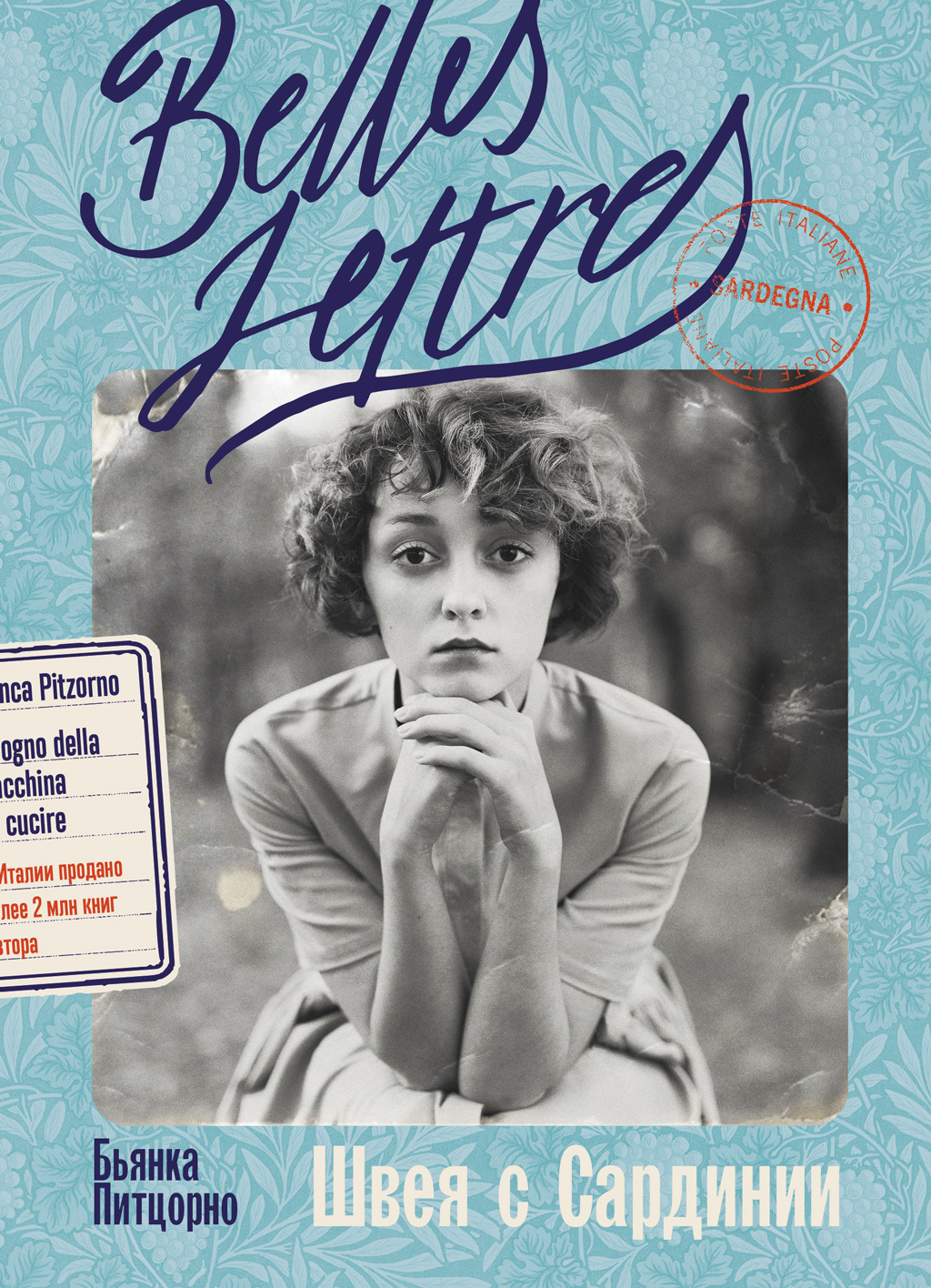осмотреть ребенка.
– Девочка согрелась, ни жара, ни озноба, ни кашля нет, – заверила она меня. – Будем надеяться, ты вовремя ее вытащила из воды. Но ты права, лучше ее увезти: я бы не хотела брать на себя такую ответственность.
Ассунтину уложили в постель, накрыв целой горой одеял и сунув в ноги пару бутылей с горячей водой. У кровати зажгли жаровню, простоявшую там до самого нашего отъезда. Обед несносной девчонке тоже подали в постель, и одна из сестер кормила ее с ложечки. Каждые два часа приносили градусник – впрочем, температура не поднималась. Но я так разозлилась, что больше с Ассунтиной не заговаривала, и она в ответ тоже надулась. Единственное, что она мне сказала, когда я подошла потрогать ей лоб: «Не хочу тебя видеть. К маме хочу».
Когда пришла пора ехать, она, не проронив ни слова, встала, оделась, сложила свой узелок и так же молча потащилась за мной на станцию, а в поезде села как можно дальше, облокотилась о деревянную спинку сиденья и притворилась спящей. В купе мы были одни. Я с тревогой прислушивалась к ее дыханию, но по прошествии нескольких минут, поняв, что оно ровное, без кашля и хрипов, понемногу успокоилась. Вот только любоваться пейзажами за окном уже не хотелось.
К тому времени, как мы приехали в Г., почти стемнело. Однако на вокзале горели фонари, и я, приоткрыв окно, выглянула наружу. В этот раз людей на перроне было куда больше: перекрикивались носильщики с чемоданами, путешественники самого разного достатка приветствовали друзей и родственников, продавцы густо посыпанных сахаром горячих пончиков наперебой расхваливали свой товар. В дорогу монашки дали нам хлеба с сыром и бутыль молока с медом для Ассунтины, но я решила, что вполне могу купить ей пончик, чтобы помириться, и даже высунулась из окна позвать продавца, однако было уже поздно – поезд снова тронулся. Тогда-то мне и показалось, что я увидела – мельком, как раз в тот момент, когда он одним прыжком вскочил на подножку вагона первого класса, – молодого человека в пальто из верблюжьей шерсти, как две капли воды похожего на синьорино Гвидо. Но, разумеется, это был не он. Что бы ему делать в Г.? Разве он не в Турине?
Я закрыла окно, села. Сердце колотилось, словно бешеное, меня трясло, пришлось даже закутаться в шаль, чтобы успокоиться. А вдруг это все-таки был Гвидо? Нигде еще разделявшее нас расстояние не было столь очевидным, как в поезде. Первый класс – и третий: дальше, чем от Земли до Луны. Об этом нельзя забывать. Никогда. Никогда. Никогда.
Когда сердце немного замедлило бег, я снова взглянула на Ассунтину: она так и сидела с закрытыми глазами – может, в самом деле спала. А вместе с ней, убаюканная размеренным ходом поезда, сама того не заметив, уснула и я.
Через некоторое время – уж и не знаю, какое именно, – меня разбудил ласковый и, как оказалось, вовсе не незнакомый голос: «Вам удобно, синьорина? Могу я что-нибудь вам предложить?» Я увидела руку, протягивающую мне дорожную подушку из тех, что выдают пассажирам первого класса, и подняла глаза: напротив меня, рядом с Ассунтиной, сидел синьорино Гвидо.
– Какое счастье, что я успел заметить на станции, как вы выглянули в окно! Я и представить себе не мог, что вы можете оказаться в этом поезде. Из П. едете? И конечно, были на пляже – вон как загорели! А эта девочка – ваша племянница?
Я была благодарна ему за то, что он не спросил: «Это ваша дочь?» Ассунтина была такая маленькая и хрупкая, что не выглядела на свой возраст. Гвидо, конечно, понимал, что я могла родить и в шестнадцать – и была бы далеко не первой. О том, что именно ради него я до сих пор хранила сердце и тело нетронутыми, никто, кроме меня, знать не мог. А уж я бы точно ни за что не призналась.
– Нет, дочь одной подруги. – О том, как сам он оказался в поезде и почему не остался в первом классе, я расспрашивать не стала: не было нужды.
– C дядей случился удар, – поспешно объяснил Гвидо, – и бабушка прислала мне телеграмму с просьбой приехать. Она ужасно напугана, но, надеюсь, дело не слишком серьезное. Бедные одинокие старики! У них ведь никого, кроме меня, нет.
– Как жаль! Надеюсь, ваш дядя поправится. – Я по-прежнему не догадывалась, кем были эти бабушка и дядя, в глубине души теша себя иллюзией, что они окажутся мелкими буржуа, торговцами или конторскими служащими, которые шли на бесчисленные жертвы, лишь бы оплачивать юному синьорино учебу и одевать его так, чтобы не опозорить перед товарищами побогаче.
– Можно мне провести остаток поездки с вами? – робко поинтересовался синьорино Гвидо.
– Об этом лучше спросить начальника поезда, – сухо ответила я. – Но мне кажется, что в первом классе вам было бы гораздо удобнее.
– Там я лишен удовольствия находиться в вашем обществе.
Что тут скажешь? «Мне ваше общество столь же приятно» или «Доставьте же удовольствие и мне, уйдите»? Я промолчала, но сердце мое разрывалось между радостью, которую доставила мне эта нежданная встреча, и недоверием. Чего он хочет? Почему искал меня? Понадеялся, что больше в купе никого не окажется, и решил этим воспользоваться? Заманить в ловушку? Хорошо еще, Ассунтина рядом.
Нисколько не смущенный моим молчанием, Гвидо непринужденно откинулся на спинку сиденья и продолжил рассказ:
– Лекции, к счастью, закончились в прошлом месяце. До последнего экзамена у меня еще дней десять, а через четыре месяца уже и диплом. Я как раз дописываю последние главы, нужно сосредоточиться, а у бабушки вечно то одно, то другое. В общем, если пойму, что дядя не так плох, как она пишет, и что за ним обеспечен уход, постараюсь с послезавтрашнего дня хотя бы на несколько часов выбираться поработать в читальном зале библиотеки. С девяти до двенадцати. Не зайдете ко мне? Знаете, где это? Вход бесплатный. Мы могли бы спуститься во внутренний двор и там спокойно поговорить.
– А нам есть что сказать друг другу?
– Ну же, не будьте такой! Почему вы мне не доверяете? Разве я хоть раз отнесся к вам без должного уважения?
Насколько я знала, внутренний двор библиотеки был местом не слишком уединенным, через него постоянно сновали люди. Если Гвидо хотел заманить меня в ловушку, то выбрал бы для встречи другое место. Но ведь нас же увидят! Студент и простая швея – неужели он не станет меня стыдиться? Его бабушке, его семье, разумеется, немедленно обо всем доложат… От этих мыслей у меня голова пошла кру́гом.
– Так что? Придете? – переспросил он, протянув руку, чтобы коснуться моей.
Я ее не отдернула. Несмотря на то что стыдилась своей грубой, поцарапанной иглой и обожженной утюгом кожи. Я взглянула на Ассунтину: глаза ее были закрыты, хотя, уверена, она давно проснулась и все слышала.
– Я эти долгие месяцы ни о ком, кроме вас, и подумать не мог! А вы? Вы хотя бы иногда обо мне вспоминали? – продолжал Гвидо (да простит меня читатель, если мало-помалу я даже в мыслях начала называть его «Гвидо», забыв или попросту не желая более признавать дистанцию, которую предполагало обращение «синьорино»). Я не знала, что ответить: губы дрожали, не хватало только расплакаться. – Пожалуйста, прошу вас! Приходите! Послезавтра утром. В субботу вы ведь будете посвободнее, правда? Или, если не сможете, приходите в понедельник, в любое время, когда захотите! Я буду ждать вас каждый день, каждую минуту!
Обещать я ничего не стала. Но и руки́, которую он сжимал все крепче и крепче, не отнимала. Мы молчали, а поезд мчался сквозь ночь. Как долго? Я совсем потеряла счет времени и не могла ни о чем думать – лишь отчаянно пыталась сдержать слезы, которые жгли мне глаза.
Наконец вдали показались огни Л. – мы подъезжали. Я вздрогнула, вскочила, потом разбудила Ассунтину и, плотно закутав в шаль, которую завязала на спине, дважды обернула ей голову красным шарфом. Она покорно, не говоря ни слова, позволила мне себя одеть, но все это время не сводила с Гвидо вопросительного взгляда.
– Ей нельзя мерзнуть. Не успела выздороветь после тяжелейшей пневмонии – и на́ тебе, решила ночью в море окунуться, – объяснила я и вдруг поняла, что с самого отъезда из П. не произнесла другой законченной фразы.
– Если позволите, я пришлю завтра врача, который лечит моего дядю Урбано, – предложил Гвидо. Но даже это имя все еще ничего мне не сказало: вот уж действительно, как говорила моя бабушка, нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать.
Гвидо настоял на том, чтобы отвезти нас домой