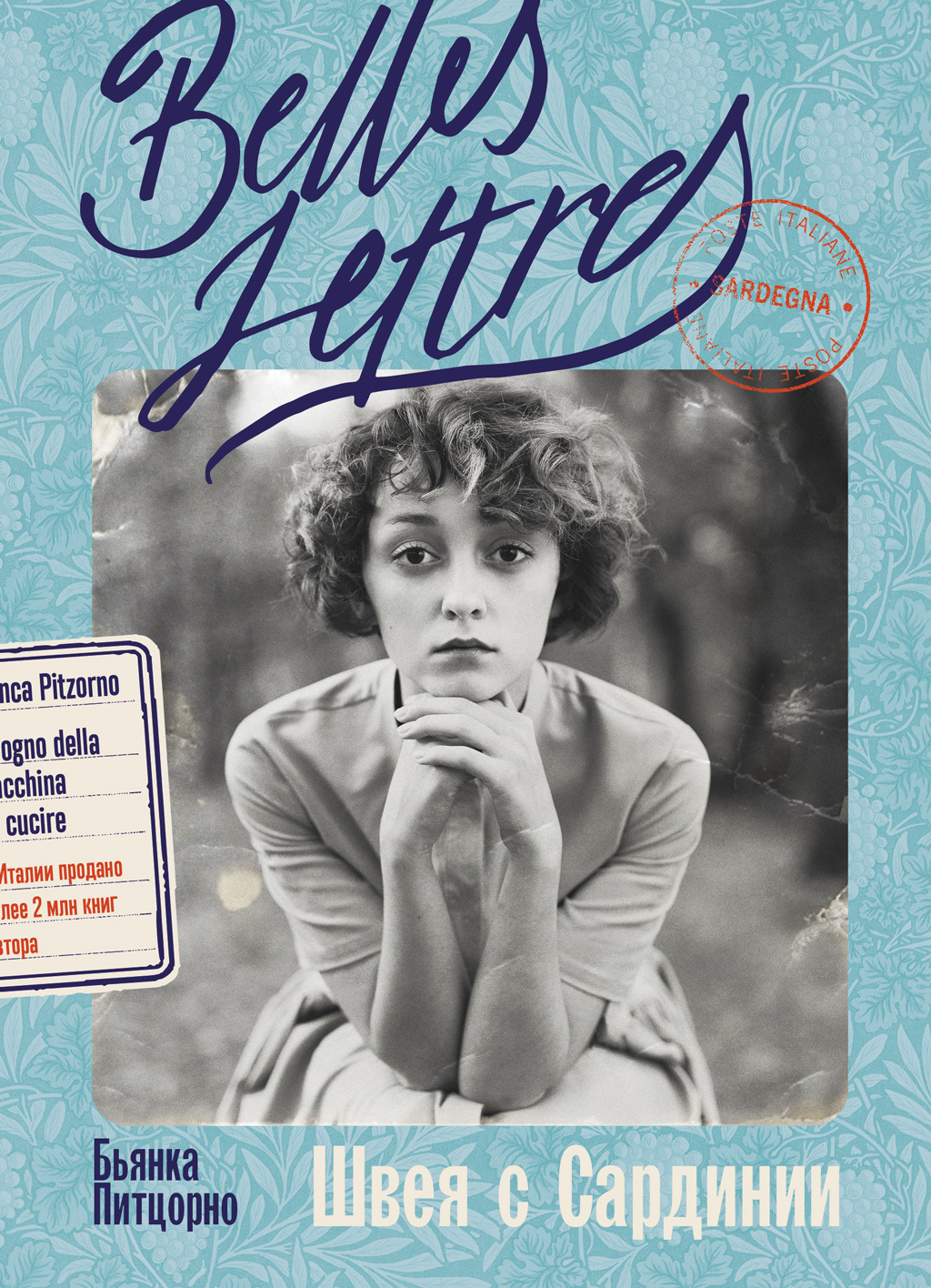стараясь не перепачкать уличной грязью идеально вычищенные штиблеты.
Впрочем, Зита, вопреки моим ожиданиям, сразу согласилась лечь в больницу. С головой уйдя в строительство воздушных замков, я даже не заметила, насколько измотана моя подруга, насколько она ослабела. Между тем в последнее время гладильщица так исхудала, что едва держалась на ногах. Щеки ее горели болезненным румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Единственное, о чем она волновалась, – как оставить дочь одну. Но стоило мне сказать, что на время ее отсутствия я возьму Ассунтину к себе, как Зита, смирившись, тут же принялась греть воду, потом вымылась в тазу и натянула лучшую нижнюю сорочку, что у нее была, – без дыр и не слишком латаную. Я одолжила ей свою фланелевую ночную рубашку, и мы с Ассунтиной проводили бедняжку до больницы, где, получив направление доктора Риччи, ей сразу же выделили койку в туберкулезном отделении. Навещать запретили: сказали, нужна полная изоляция. Прежде чем скрыться за стеклянной дверью, откуда она могла больше не выйти, Зита наказала дочери быть послушной, помогать мне мыть лестницу и не шалить в школе. Напуганная словами доктора об опасности заражения, целовать Ассунтину она не стала. Та же глядела на мать не отрываясь, но без тревоги или печали: даже не плакала, только, вцепившись одной рукой в мою юбку, другой крутила пуговицу на груди. А вот я немного всплакнула – наверное, больше от раскаяния, чем от грусти. Лишь позже, накормив Ассунтину ужином и уложив ее спать на маленькой кровати, которая раньше, еще при бабушке, была моей, я нашла время подумать и осознать взятую на себя ответственность. Что, если Зита умрет – точнее, когда Зита умрет, – хватит ли мне смелости отдать девочку в приют?
Возвращаясь из больницы с Ассунтиной, по-прежнему цеплявшейся за мою юбку, я зашла к мяснику купить куриную ножку на бульон, затем к молочнику, у которого взяла два литра молока, и, наконец, к пекарю. Поскольку кошелек в верхнем ящике комода был теперь пуст, мне пришлось заглянуть в жестяную шкатулку желаний, которые стоило бы отныне называть иллюзиями, и я заметила, что монет и банкнот, предназначенных на всевозможные излишества, оказалось вовсе не так много, как воображалось в моих глупых мечтаниях.
Назавтра я, как обычно, встала пораньше, чтобы успеть вымыть лестницу, а когда Ассунтина, крепко держа за руку девочку постарше, тоже из нашего переулка, ушла в школу, немного прибралась и в доме. Потом, сходив проверить, заперта ли дверь Зитиного полуподвала, достала простыни, которые мне надо было окантовать фестонным швом, но заказ был несрочным. И пока иголка сновала туда-сюда, кладя стежки и затягивая петли, мысли снова пришли в смятение. Я-то считала, что за последнюю неделю моя жизнь полностью изменилась. А на самом деле изменения коснулись лишь цвета моих щек, к которым совсем скоро вернется их привычная бледность, да присутствия Ассунтины – ему, впрочем, тоже суждено продлиться недолго, хотя я и сама пока не могла предсказать, сколько именно. Остальное же оказалось просто обманчивой мечтой. Иллюзией. Сном, что исчезает с рассветом.
Тонкий мост, протянутый над бездной
С тех пор как умерла бабушка, я всегда жила одна. Не то чтобы меня это сильно расстраивало – скорее, наоборот. Заперев на ночь дверь и сбросив туфли, я чувствовала себя свободной, самой себе госпожой. Даже когда средства мои, казалось, совсем иссякали, а заказов не предвиделось, мне и в голову не приходило взять жильцов, сдав им одну из двух своих комнат. Помимо прочего, я вовсе не была уверена, что хозяйка согласится. Однако на то, чтобы приютить Ассунтину, я и не подумала спрашивать разрешения – может, потому что та была совсем еще девчонкой, а может, решила, что выбора все равно нет. Пожилая синьора знала и ее, и Зиту и считала обеих вполне порядочными, вежливыми и чистоплотными, несмотря на жизнь в полуподвале, которым старушка владела, как и всем остальным зданием, и за который Зита всегда платила в срок. Хозяйка не раз хвалила гладильщицу за любовь к уборке, хотя той и приходилось набирать воду из фонтана на соседней площади. Ассунтину она знала с рождения. Так что, думала я, у синьоры не хватит духу попросить меня выгнать ее прочь, то есть, по сути, оставить на улице.
Для меня присутствие Зитиной дочки было переменой весьма значительной, даже тяжкой, а порой и вовсе раздражающей. Я не привыкла к тому, что ни на минуту больше не оставалась одна, и не знала, как позаботиться о ребенке, хотя Ассунтина, будучи для своего возраста девочкой вполне самостоятельной, и старалась доставлять мне как можно меньше проблем. Мой дом, особенно комната, которую бабушка называла «гостиной» и где принимала клиентов, Ассунтине всегда нравился. Она была просто очарована двумя обитыми ситцем креслами, высоким узким зеркалом, которое можно было наклонять вперед-назад, и особенно швейной машинкой. По сравнению с каморкой без окон и внутренних стен, где она жила раньше, остаться со мной для нее было все равно что переехать в королевский дворец. Ей нравилось открывать и закрывать окна и ставни, прикрывать кухонную дверь, чтобы по квартире не распространялись запахи, когда мы готовили цветную капусту, по несколько раз подряд бегать в туалетную кабинку на заднем дворе, выплескивать туда полные ведра воды, за которой не приходилось ходить к фонтану, поскольку вода в моей квартирке текла из крана, как и во дворе, – прямо над ванночкой с рифлеными бортами, где я стирала белье. Это тоже вызывало у Ассунтины невероятное восхищение: она то и дело просила у меня платочки на стирку и терла их так энергично, что те разлетались в клочья.
Прошло уже несколько дней. Все время, что девочка была в школе, я проводила дома за шитьем, размышляя о случившемся в поезде. И, хотя злость на Гвидо никуда не исчезла, стоило мне вспомнить его взгляд, его голос, как мое сердце плавилось от нежности.
Около половины второго, когда я заканчивала обметывать последнюю простыню, в дверь постучали. Открыв, я с некоторой досадой увидела Ринуччу, «молодую» служанку Дельсорбо, и внутренне напряглась, готовая с ходу отвергнуть любое предложение. И предложение не замедлило поступить, но с несколько неожиданной стороны – от донны Личинии.
– Дон Урбано умирает, – сообщила Ринучча. По ее тону я поняла, что о моих отношениях с Гвидо и о том, что мне уже известно о болезни хозяина, она не знала. – Кирика от его постели не отходит, совсем отчаялась, бедняжка…
«Добрый и верный раб» [13], – непроизвольно всплыли в голове строки из Писания. Вот только с чего бы Ринучче упоминать о страданиях Кирики? Что такого любопытного в этой детали?
– Донна Личиния, должно быть, в отчаянии, – ответила я. – Потерять ребенка – это так тяжело. Особенно когда тебе самой сто лет в обед.
– Донна Личиния хочет, чтобы ты зашла подшить погребальный покров шелковым галуном: пообтрепался он со времен донны Виттории. Если не в ночь, так завтра тело придется выставить для прощания, и все должно быть готово.
Она так и стояла, спрятав руки под фартук: ждала, пока я отложу шитье и начну собираться. Ни малейшего колебания, ни малейшего сомнения в моем согласии: я ведь всегда приходила, когда меня звали, а на сей раз дело и впрямь было срочным.
Как я могла отказать, не объяснив, что произошло между мной и доном Гвидо?
– Я взяла к себе в дом одну девочку. Пусть она сперва из школы вернется, до тех пор я не могу уйти.
– Донна Личиния не обрадуется, если ты заставишь ее ждать, – хмыкнула Ринучча, удивленная и раздосадованная тем, что приказ хозяйки не был исполнен в мгновение ока. Я же тем временем лихорадочно размышляла, каким еще предлогом могла бы воспользоваться, чтобы не идти. Отказать без причины значило бы нажить себе очень могущественного врага. Донна Личиния пустила бы слух, что я ненадежна, капризна, что на меня нельзя рассчитывать, и я потеряла бы клиентуру. А один только Бог знает, как мне сейчас, с Ассунтиной на руках, нужны заказы.
– Ну же, шевелись, – сурово прикрикнула на меня Ринучча. – Не слышишь, вон она возвращается, твоя крестница.
В переулке и впрямь послышались голоса ватаги ребятишек, запрудившей всю мостовую. Кто-то оглушительно вопил: «Мам, я есть хочу!»
Не прошло и минуты, как на пороге в наглухо застегнутом пальто инженерской дочки и в красном шарфе, обмотанном вокруг головы, возникла Ассунтина. Рекомендации врача она восприняла буквально, да и пальто, по правде сказать, прикрывало ее куда лучше, чем шаль. Сложив букварь и тетрадь на стул, она вопросительно уставилась на Ринуччу.
– Мне нужно пойти поработать. В шкафу