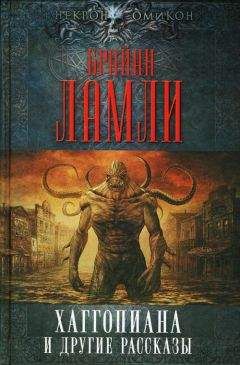тебе у нас, нравится? – он смотрел на мальчика с любопытством. Давиду показалось, что спрашивает он вполне серьезно.
– Ну да, здесь хорошо.
– Рад слышать. У нас не так много гостей, и нам важна каждая похвала. Особенно твоя. Ты наш особый гость.
Мальчик не стал спрашивать, почему особый. Он смотрел, как Илия ладонью потирает подбородок, и думал, что хорошо бы Илия сам предложил ему потрогать щетину. Может, и ему это было бы приятно.
– Когда я был мальчишкой, как раз твоего возраста, я чуть не умер. Во дворе у нас росла черешня. Огромная, ей тогда лет семьдесят было, еще мой прадед по ней лазал. Дело было в июне, а как раз в июне, ты знаешь, поспевает черешня. Я забрался повыше, туда, где ягоды самые крупные и сладкие, а потом решил залезть еще выше, к самой высокой ветке. И тут ветка сломалась. Падал я долго, мне казалось, что несколько лет, и, падая, повзрослел. На землю шмякнулся, думали, костей не соберу, но главной бедой было не это. Я упал на ржавые грабли, которые кто-то неизвестно когда оставил в траве. Смотри, вот сюда вонзились, до сих пор следы видно. – Он задрал рубашку и показал шесть правильно расположенных шрамов на месте дырок, тянувшихся через всю спину немного ниже шеи. – Три дня я пролежал без сознания. Все были уверены, что спасения нет, что я умираю. Доктор, которого привезли из города, удивился, что я еще жив, и добавил, что до следующего утра не доживу. Так и сказал. Дед от отчаяния не знал, что делать, и велел срубить черешню. Я ему никогда не смог это простить.
– Но ты же не умер?
– Не умер, но черешню он срубил. Я думал тогда, что это хуже, чем если бы я умер.
– Так оно и есть!
– Вот потому я тебе это и рассказал. Я знал, что ты меня поймешь.
– Из-за того, что я такой, да? Ты так подумал?
– Нет, не из-за этого! – лицо Илии перекосилось, а потом и покраснело. – Когда с кем-то знакомишься, почти сразу понимаешь, что человек может понять, а чего не может, – попытался выкрутиться Илья.
Давид, однако, все понял и нисколько не обиделся. Он снова почувствовал гордость.
– Видишь, они этого не понимают. Катарина на меня сердится, когда я говорю, что и сейчас, через столько прожитых лет, по-прежнему считаю, что лучше бы мне было умереть, но зато дед не срубил бы черешню. Она закрывается в комнате и не хочет со мной разговаривать. Или говорит: «А что бы я тогда делала без тебя?» Не понимает, что было бы лучше, если бы, выбирая между мной и деревом, дед выбрал дерево.
– А у нее бы была черешня!
– Вот и я так думаю. У нее была бы черешня.
– А ты ей это сказал?
– По правде говоря, не решился.
– Хочешь, я как-нибудь вечером, во время разговора, вроде как случайно скажу ей, что с деревом черешни она была бы счастливее, чем с тобой?
– Лучше не надо! И лучше пусть Катарина не знает, что я тебе это рассказал.
– Хорошо, я понимаю.
Давиду было жалко, что Илия не догадался о его желании и не предложил прикоснуться к своей щетине, провести по ней ладонью, как наждачной бумагой по дереву, из которого плотник делает ножку для будущего стола.
Пока Томаш с немкой поднимались на гору, он рассказывал ей свою жизнь.
Он больше не чувствовал той легкости и оживления, как вчера, но все же подъем его пока не утомлял. Тем более что они останавливались через каждую сотню метров и, продолжая разговаривать, поворачивались в сторону моря, которое становилось тем шире и больше, чем выше они поднимались.
Он рассказал ей, что думал остаться холостым.
В сущности, он им и остался, потому что научился гладить себе рубашки.
А мать всегда ему говорила: если мужчина научился гладить, это признак того, что он засиделся в холостяках, и ему, как и любому другому в таком положении, стало действовать на нервы, что его рубашки гладит прислуга.
– Даже самому германскому императору, говорила она, рубашки гладит его императрица. А императорская служанка гладит рубашки только своему мужу. Так установил Бог: каждая женщина гладит рубашки одному-единственному мужчине, а мужчина, который научился гладить сам, уже никогда не женится. Точнее говоря, мужчина учится гладить, поняв, что никогда не женится.
– Вот так и я понял, что останусь неженатым, но потом на улице одного галицийского города, где оказался почти случайно, увидел, встретил Эстер. И вмиг потерял рассудок.
– Она была…
– Да, она была еврейкой.
– Нет, я не это хотела спросить. Она была намного моложе вас?
– Естественно, моложе. И да, она была еврейкой.
– А Давид? Он родился…
– Нет, это туберкулез костей. По-моему, я вам уже говорил. До трех лет он был нормальным ребенком.
Потом они опять остановились возле тех двух камней, по которым село Мирила получило свое имя. Сели, и он еще долго ей жаловался. Рассказывал, как невероятно трудно иметь больного ребенка.
Катарина пыталась его утешать, отвечая, что Давид прекрасный и умный, и что такого умного мальчика она никогда не встречала.
– Это так, но его ум и проницательность редко удается почувствовать как благо и как дар. Обычно это воспринимается как дополнительный груз к его болезни.
– Да, ему труднее всех, – сказала она.
– Вы не правы, он ведь другой жизни не знает. Труднее всего тем, кто с ним живет.
– Знаю, – сдалась она, – но он такой чудесный.
– Он страшный!
Она не ответила. Они было продолжили взбираться на гору, но вдруг оба почувствовали такую усталость, что сочли за лучшее вернуться.
– Завтра поднимемся выше, – сказала она.
– Это очень страшные вещи, – проговорил он, и до возвращения в отель они больше не проронили ни слова. И казались несчастными и поссорившимися людьми, которые никогда больше не заговорят друг с другом. И не только казались, но и оба чувствовали это.
В среду, ранним утром, профессор вместе с Илией и Хенриком снова поставили антенну.
Около семи часов, когда Катарина обычно уже просыпалась, из радио раздалась музыка.
Вниз по склону покатился звук барабанов, тимпанов, загудели трубы, величественную мелодию подхватили смычковые. Так пробуждался Берлин – под неистовый финал Рихарда Штрауса, возникший из ничего, или из многолетнего человеческого недовольства, из невроза, переросшего в истерику. В истерику симфонических финалов цивилизации, которая каждое утро просыпается на пике эмоционального напряжения. Тем летом 1938 года личные эмоции и фрустрации одного из композиторов, Рихарда Штрауса, совпали