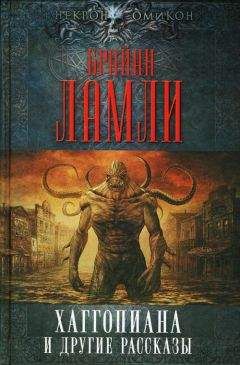с эмоциями и фрустрациями немецкой нации. Такое случается редко и всегда предвещает большие беды.
Готовилась война.
Они не хотели в это верить, не хотели об этом говорить, но готовилась война.
Потому что если не война, то что тогда?
Что еще могло бы заставить работавших на радиостанции людей будить город и мир в семь часов утра истерическим финалом жалкого эпигона Вагнера?
Хенрик принялся искать на шкале другую радиостанцию. Слышался треск, хаотический шум и завывание радиоволн.
По лондонскому радио премьер Чемберлен читал утомительную утреннюю лекцию о мире.
Илия поморщился, как от забравшегося в ухо насекомого. «Радио Парижа» передавало легкую музыку с новых грампластинок. Какая-то певица с негритянским голосом пела о пальмах на Мартинике.
На «Радио Белграда» пианист в студии играл «Гольдберг-вариации», звуки напоминали джазовую музыку в исполнении чернокожего.
– Похоже, это оказалось не самой лучшей идеей, – сказал профессор.
Из отеля друг за другом появлялись заспанные обитатели. Ружа толкала перед собой инвалидное кресло с мальчиком. Катарина вышла босая, в пестром летнем платье, которое надела случайно, когда ее разбудил Рихард Штраус.
Они друг с другом не разговаривают, испугался Давид. Действительно, в то утро они некоторое время не разговаривали, но позже все продолжилось, как и было раньше.
Профессор выключил радио.
– Лучше спустить антенну. На случай нового урагана, – сказал он.
Радио вдруг стало его угнетать. Он больше ничего не хотел слышать, потому что во всем и на любой частоте он слышал только войну.
Завтракали молча, каждый со своими мыслями.
Слышно было только звяканье ножей и вилок. И постукивание нержавеющей стали по фарфору, да звук серебряных ложечек, которые перемешивают крепкий черный чай с молоком и медом и ударяются о стеклянные стенки русских граненых стаканов.
Если сегодня начнется война, думал он, если будут закрыты границы и перестанут ходить поезда, как оно и бывает в случаях внезапно вспыхнувших войн, может случиться так, что он останется здесь, в этой глуши, удаленной от Кракова на тысячу, и даже больше, километров.
Такая мысль его потрясла.
Но не из-за того, что он окажется далеко от дома, среди чужих людей, на чужбине, там, где в принципе не стоит находиться, если у тебя не каникулы и не отпуск. Его ужаснула мысль, что он может остаться вдалеке от своих вещей: письменного стола и стула, бумаг и рукописей, которые, вероятно, никогда уже не прочтет, фотографий Эстер, ее школьных табелей, скрепок, шпилек для волос, пыли на мебели, давних следов собственных пальцев, вида из окна…
Итак, он останется здесь, без всех этих мелких и преимущественно ничего не стоящих вещей, для всех остальных в основном непонятных, немых и свободных от всякого значения и смысла. Расшифровать их было бы тяжелее, чем понять египетские иероглифы.
Получалось, что ему было бы легче расстаться с Давидом, чем со своим краковским домом.
Такое принять он не мог. И не понимал, что вдруг произошло. Как для него все это стало настолько важно, если он никогда раньше не был привязан к материальным вещам? Или ему так казалось? Страх потерять все это он чувствовал так же остро, как и страх смерти. Поняв, что это один и тот же страх, он решил больше об этом не думать. И хоть звучало это настолько патетично, что он и сам себе не вполне верил, профессор в этот момент открыл для себя истинное значение слова «родина».
– Не попытаться ли нам с вами сегодня наконец-то захватить венецианскую крепость? – неожиданно спросил он у Катарины.
– Неужели вам это еще не удалось? – улыбнулся Илия.
Так продолжилась череда одинаковых или очень похожих дней необычного летнего отдыха профессора Томаша Мерошевского и его сына, а также сопровождавших их старика и девушки, – отдыха, начавшегося после футбольного матча на следующий день после открытия чемпионата мира во Франции, матча, который Польша проиграла Бразилии, из-за чего провалился профессорский план слушать по радио трансляции встреч до самого финала, когда, как он все-таки верил, Польша станет чемпионом мира, а он – в атмосфере спортивной эйфории и приближающейся череды важных исторических событий, в которой каждый отдельный человек, как он думал, будет обязан проявить ответственность, – найдет вместе с Давидом ответы на все жизненно важные вопросы и отделит его от себя так же, как отделяют моллюска от поверхности морского камня, без которого он в ближайшие несколько часов несомненно умрет.
А когда польские футболисты потерпели поражение, он не понимал, что делать дальше.
Он чувствовал неконтролируемое и неразумное влечение к красивой немке. Оно сделало его моложе, но при этом намного несчастнее. Он чувствовал себя умирающим и одновременно тем, кто этого умирающего, то есть самого себя, оплакивает.
Перед ним возник образ того нищего, больного туберкулезом боснийского паренька, ставшего сейчас югославским дипломатом, которого он пожалел, увидев, как тот в Страстную Пятницу, в пустой аудитории, при свете тлеющего в печи угля читает стихи Генриха Гейне.
Сейчас так же, как тогда умирал юный босниец, умирал он рядом с Катариной, не прикоснувшись к ней.
Но тогда нашелся человек, который его спас, горевал профессор, придавая своей благотворительности слишком большое значение. Что ж, любви свойственны преувеличение. Поэтому-то и невозможно рассказать великую любовную историю, у которой не было бы несчастного конца. Лишь тогда, когда все кончается плохо, трагично, и любовники обязательно умирают, как будто любовь – это чума, история приобретает вес и все преувеличение забываются.
В этот день он снова послушно и без всякого плана отправился с Катариной на штурм венецианского укрепления.
Все вчерашние недоразумение забыты. Давида он решил не упоминать и ни на что не жаловаться.
Он рассказывал Катарине о политической ситуации и международных отношениях, о Великой войне, – тогда, летом 1938 года, так называли Первую мировую войну, потому что Вторая еще не началась и не начнется, если верить утренним проповедям премьера Чемберлена на волнах «Радио Лондона», – о том, как зимой 1917 года некоторое время подумывал отправиться в Россию и примкнуть к большевикам, уверенный в том, что в Петрограде и вокруг него происходит нечто важное и великое и что пролетарская революция – это моральный экзамен для всего человечества. Но очень скоро очнулся и уже с первым снегом принялся молить нашего доброго Бога и сына Божьего Иисуса Христа, Блаженную Деву Марию и всех святых, чтобы революция повернула на восток, а поляков оставила в покое в их кафедральных соборах и часовнях, в их смиренной католической вере, которая подразумевает, что земная жизнь – это страдание и несправедливость и всего лишь дорога в жизнь