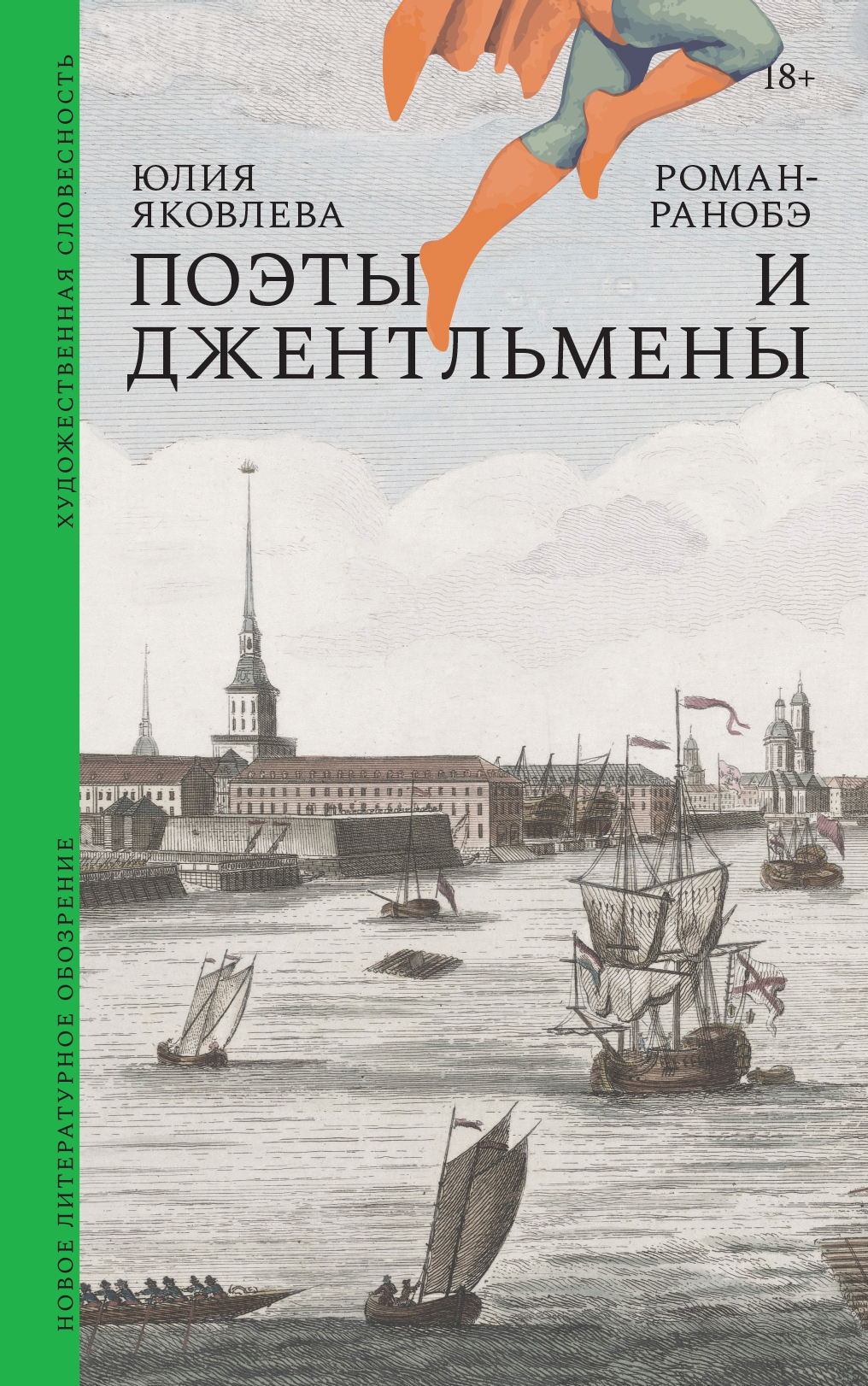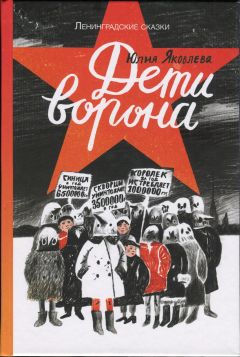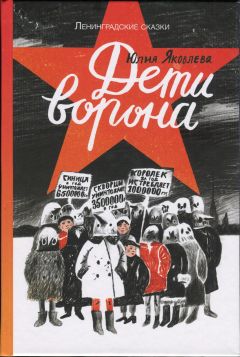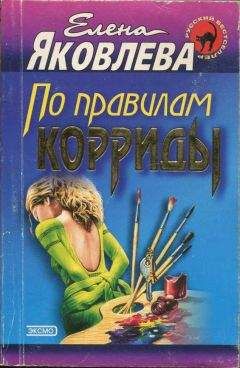бутылки. «Где же водка? Где коньяк?» – удивился он. Рассердился: «Госпожа Петрова опять выставила всё на стол – но так, чтобы никто ничего не нашел». Глаза шарили поверх батареи бутылок в поисках граненой пробки. Занятый поисками, он не видел, что смерч, устроенный Гоголем, приближается позади. Вибрация паркета под его ногами нарастала, но и на нее он не обратил внимания. Так как пришлось встать на цыпочки, чтобы достать пузатый графин с водкой, который госпожа Петрова осуждающе задвинула подальше – за лимонады, за зельтерскую, за клюквенный морс. Чехов вытянул графин за горлышко. Ему показалось, что пахнет из чаши несколько крепче, чем он ожидал. «Кажется», – отбросил сомнения он: пунш готовила госпожа Петрова, не одобрявшая алкоголь. Вынул граненую пробку. В водке нет вкуса, но ее запах… Запах плебейский. Именно в этот вечер Чехов особенно боялся вульгарности. Именно в этот вечер особенно хотелось быть непринужденно элегантным. Как будто за плечами – шесть сотен дворянских лет. Он наклонил горлышко – чуть-чуть… Стопка – не больше. Только чтобы помочь всем сломать лед. И в этот миг пенистая шелковая волна в повороте накрыла его с головой.
Обдала сложным запахом вербеновых духов, пачулей, пота, страха, ожиданий. Чуть не сбила с ног. Накренила. Отхлынула, шурша. Гоголь повлек ее дальше – госпожа Радклиф еле успевала перебирать ногами.
Чехов с ужасом увидел, что графин в его руках…
– Зачем вы принесли пустой графин? – быстрым и злым шепотом потребовал по-русски за его плечом Лермонтов. – Уберите! Пунш сервируют в чаше!
Музыка вдруг стихла.
Огоньки свечей перестало трепать сквознячком танцующих – они встали вертикально. Все старались унять дыхание. Дамы прятали вздымающуюся грудь за веерами.
Чехов, протянувшись во весь свой высокий рост, гибко задвинул графин обратно. Повернулся с гостеприимной улыбкой.
Увы. Танцы не развеяли напряжения. Напротив, оно, казалось, сгустилось еще больше. Ибо тема погоды, даже такой капризной, как петербургская, за три вальса была осушена до дна.
– Дамы! Господа! Прошу… – любезно пригласил всех Пушкин, открывая в улыбке слишком много зубов, чтобы ей можно было верить. – Пунш!
Он сам взялся за серебряный половник. Сам зачерпнул. Сам налил первую чашу. И подал ее госпоже Остин, с которой провел последний тур. Следующую чашу протянул госпоже Шелли. Оделил госпожу Радклиф. Мужчины помогли себе сами. При свечах в зале быстро стало душно, танцы разгорячили, жажда просила бокалов, поэтому первый тур пунша промелькнул молниеносно.
Похвалы напитку позволили заполнить тишину, пока Чехов разливал второй. При этом ухо его предательски запылало. Пунш вышел крепковат. Даже на опытный вкус.
Осушили и второй.
Только на третьем раунде глотки стали реже, а паузы длиннее. И их опять пришлось бы чем-то заполнять. Но, к счастью для всех, опять затренькал вальс.
– Ваш музыкант не знает усталости! – как-то слишком громко и звучно удивилась госпожа Остин, взмахнув чашей так энергично, что подняла в ней небольшую бурю.
Независимый наблюдатель отметил бы, что и щеки ее слишком красны, а глаза – слишком блестят. Но все присутствующие достигли равной кондиции одновременно. Поэтому восторг госпожи Остин всем показался естественным, а замечание – толковым. Дамы присоединились к нему единодушно.
Разъяснить гостьям, в чем дело, хозяева тоже бросились все разом. Причем Гоголь и Чехов заговорили по-английски ужасно бегло и бойко, хотя английского раньше не знали. Перебивая друг друга, они принялись добросовестно объяснять дамам принцип устройства прибора. Пушкин оживлял пояснение энергическими восклицаниями:
– Совсем новая штука! Нужно всё испытать!.. Технический прогресс не стоит на месте! Наш мир – мир машин, мир пара и электричества!
Лермонтов несколько раз хватался за нож, чтобы на подтаявшем прямоугольнике масла начертать несколько формул, все окончательно проясняющих.
Всей гурьбой подвели дам к пианино. Остин стало жутко при виде клавиш. Они утопали и прыгали сами по себе, как будто по ним перескакивал призрак.
– Ведь восхитительно? Скажите, восхитительно? – заглядывал ей в декольте Лермонтов.
– Это превосходит все готические фантазии, – признала она.
– Послушайте! – вскочив на стул, сверкал глазами Пушкин. – И скажите, разве можно отличить музыку машины от игры живого музыканта?
– Машины? – нетвердо вскинулась госпожа Остин.
– Тс! Тихо!.. Только послушайте!
Все сделали коровьи лица и послушали. Вальс все тренькал. Признали, что нельзя.
– А где сам музыкант? – не поняла Шелли.
– Музыка передается телеграфом? – предположила Радклиф.
С хохотом разоблачили дамам фокус. Подняли крышку. Показали барабан.
– А ноты?
Указали на ленту с прорезанным узором дырочек:
– Ни нот, ни музыканта. Это пнемно…
– Пневно… – поспешили на помощь товарищи. – Пнеппо…
Вместе одолели.
– Пневматическое пианино? – переспросила госпожа Радклиф, всего пару раз споткнувшись языком о слово «пневматический». Даже сквозь веселую теплую завесу пунша она чуяла легкий холодок непонятной угрозы и обернулась на подруг.
«А что я говорила! – ужасным лицом ответила Остин. – Все еще хотите мира? Убедились?»
Шелли покачивалась на каблуках. Но в обморок не упала.
– Господа! – воскликнула она задорно.
Радклиф наклонилась к уху Остин:
– Милая Джейн, боюсь, нашей бедной Мэри необходимо срочно попудрить нос.
Но бедная Мэри уже столкнула Пушкина со стула, вскарабкалась сама, путаясь в громоздком кринолине, показав несколько раз панталоны и пару раз покачнувшись столь опасно, что хозяева гурьбой бросились на помощь и чрезвычайно усердно придержали ее за ноги, стараясь подхватить повыше. Госпожа Радклиф не знала, куда девать глаза. Теперь она уже была согласна и на фасон «креветка», лишь бы не… Но, к счастью, кринолин с шорохом пал на прежнее место. Добровольцы не без сожаления выпустили ноги госпожи Шелли и задрали подбородки. Потому что та потребовала:
– Господа!.. Я предлагаю нам всем…
– О мой бог, – пробормотала Остин, – сейчас она предложит фанты на поцелуи.
– …мир! – пьяно объявила Шелли.
Все лица замерли. Было слышно, как со свечи упала капля воска.
Голос Шелли наполнился огнем:
– Мы все, здесь собравшиеся, так… сильны! Могущественны! Так умны! Искусны! Мы – истинные поэты! Давайте же прямо здесь помиримся! И сочиним человечеству утопию, какой оно еще не знало! Про всеобщее счастье! Про золотой век! Без эпидемий! Без нищеты! Без оков брака! Без войн!
На слове «утопия» Радклиф на миг закатила глаза. На слове «без брака» закатила глаза и Остин. В прошлый раз подобное предложение госпожи Шелли привело…
Но важное слово было сказано: мир.
– Что же, господа? Мир?
Молчание явно затянулось. Как назло, проклятый барабанчик тоже перестал вращаться. Тишина распирала стены.
– Мы? – нарушил ее Лермонтов ядовито.
– Мы! – радостно тряхнула наполовину раскрутившимися локонами Шелли. – Мы поэты. Не будем же мы придираться к терминам. На этой высоте гениальности проза и поэзия равны.
Лермонтов побледнел, тщательно отделив одно слово от другого:
– Прошу прощения?
– Что она сказала? – всполошился Чехов, которого способность к иностранным языкам покидала вместе с веселыми парами пунша.
– Говорит, ее книжки не хуже твоих, – надменно перевел Лермонтов.
Чехов надул щеки:
– Ну сударыня…
Дамы переглянулись. Интонацию его они поняли. Но понадеялись, что неправильно.
Радклиф попробовала объяснить:
– В том смысле, что гениальная проза равна в своей силе…
– Женщина не может быть поэтом, –