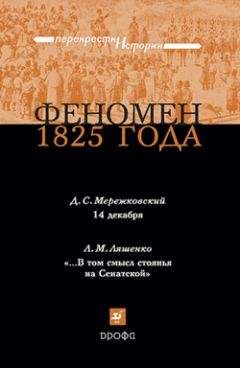- Папенька, я хотел... - и Павлуша заплакал, потому что увидел в глазах Сергея Павловича боль и страх.
Папенька подошел к Казбеку, не обращавшему никакого внимания на своих хозяев, протянул руки, снял сына с лошади и, крепко прижав к себе, почти простонал:
- Мальчик мой!..
А потом они ехали в Алексин. Папенька так и держал его у себя на коленях, то гладя, то целуя золотые его волосы, - одна из немногих ласк детства досталась тогда Павлуше.
Перепрягать лошадей до Алексина не стали: их так и везла Милашка, а влюбленный Казбек маялся сзади, привязанный к коляске. Зато какой стрелой летели они домой из Алексина, когда их перепрягли! Да, очень похожи эти леса на тульские! Павел Сергеевич пытался вспомнить, как избежали они тогда с отцом гнева маменьки. Не вспомнил и только вздохнул; ему представился всегда озабоченный и добрый взгляд папеньки, не умевшего наказывать детей...
А казематское дружество, вырвавшееся на ширь земного простора, откровенно радовалось жизни.
"Несмотря на переход в 15, 20, иногда и 25 верст, перед сном многие прохаживались ещё перед юртами, другие составляли сидящие и стоящие группы в оживленных разговорах. Это бодрствование ночью продолжалось, впрочем, на конце дневки, потому что выступали ещё до солнечного восхода и надо было запастись силами", - вспоминал А.П. Беляев. М.А. Бестужев добавлял, что записные книжки, которыми все запаслись перед походом, остались чистыми - и не дневная усталость тому виной, а бесценные малые радости - полакомиться ягодами в пути, полюбоваться прекрасными цветами или пейзажами, поиграть в шахматы с товарищами или с бурятами, которые хорошо знали эту игру.
Сколько смеха и шуток звучало на дневках, привалах и в пути, какой радостный жизнеобмен шел между этими каторжниками и природой!
Вспоминает Н.В. Басаргин:
"Поход был для нас скорее приятною прогулкою, нежели утомительным путешествием. Я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Мы сами помирали со смеху, глядя на костюмы наши и на наше комическое шествие. Оно открывалось почти всегда Завалишиным, в круглой шляпе с величайшими полями и в каком-то платье черного цвета своего собственного изобретения, похожем на квакерский кафтан. Будучи маленького роста, он держал в одной руке палку гораздо выше себя, а в другой книгу, которую читал. За ним Якушкин в курточке б l'enfant; Волконский в женской кацавейке; некоторые в долгополых пономарских сюртуках, другие в испанских мантиях, иные в блузах; одним словом, такое разнообразие комического, что если б мы встретили какого-нибудь европейца, выехавшего только из столицы, то он непременно подумал бы, что тут есть большое заведение для сумасшедших, и их вывели гулять..."1
Новая тюрьма в Петровском заводе поразила декабристов.
А.Е. Розен с присущей ему точностью описал и эту тюрьму, и разочарование, которое они испытали: "В широкой и глубокой долине показалось большое селение, церковь, завод с каменными трубами и домами, ручей, а за ручьем виднелась длинная красная крыша нашей тюрьмы; все ближе и ближе, и наконец увидели мы огромное строение, на высоком каменном фундаменте, о трех фасах; множество кирпичных труб, наружные стены - все без окон, только в середине переднего фаса было несколько окон у выдававшейся пристройки, где была караульная, гауптвахта и единственный выход. Когда мы вошли, то увидели окна внутренних стен, крыльца и высокий частокол, разделяющий все внутреннее пространство на восемь отдельных дворов; каждый двор имел свои особенные ворота, в каждом отделении поместили по 5-6 арестантов. Каждое крыльцо вело в светлый коридор, шириною в четыре аршина. В нем, на расстоянии двух сажень дверь от двери, были входы в отдельные кельи. Каждая келья имела семь аршин длины и шесть ширины. Все они были почти темные оттого, что свет получали из коридора через окно, прорубленное над дверью и забитое железной решеткой. Было так темно в этих комнатах, что днем нельзя было читать, нельзя было рассмотреть стрелки карманных часов. Днем позволяли отворять двери в коридор, и в теплое время занимались в коридоре, но продолжительно ли бывает тепло? - в сентябре начинаются морозы и продолжаются до июня, и поэтому приходилось сидеть впотьмах или круглый день со свечкою. Первое впечатление было самое неприятное, тем более что было неожиданное. Как могли мы предполагать, что, прожив четыре года в Чите, где хотя и было тесно, но было светло, мы попадем в худшую тюрьму!"1
Надо добавить: с недостатком света хоть в какой-то степени справиться удалось. Здесь снова помогли "ангелы - жены" - они отправили родным в Петербург письма с описанием казематов - темных нор. Дальнейшее, как вспоминают декабристы, выглядело так: в столице стали громко обвинять правительство в бесчеловечном обращении с узниками - об этом Бенкендорф сообщил монарху, тот, якобы не осведомленный2 о казематах без окон, тотчас же разрешил окна прорубить. "Но как? - вспоминал Н.И. Лорер. - Окна были сделаны узкие и под самым почти потолком, а решетки все же много отнимали света. Бестужев срисовал наше печальное жилище, и рисунки его рассеялись по всей России..."3
С другими недостатками - перекошенными дверями и стенами, плохо сделанными, дымящими в камерах печами - также удалось справиться.
Не под силу оказалось болото, на котором выстроили тюрьму. Дело в том, что комендант С.Р. Лепар-ский, кому "доверили" найти место для "тюремного замка", решительно отказался строить его в гибельном Акатуе.
Поиски привели в Петровский завод. Осматривая его окрестности с горы, Лепарский увидел в низине огромный, покрытый изумрудной зеленью большой луг и решил, что лучшего места для тюрьмы придумать нельзя.
Трудно обвинять 70-летнего старика, что не прошелся он по этому "лугу", - Петровскому болоту почти все декабристы обязаны ревматизмом и болезнью ног...
И швец, и жнец
Граф Ф.В. Растопчин стал знаменит остротой, которую произнес, узнав о событиях 14 декабря на Сенатской площади: "Мне понятно, что французские сапожники, когда бунтовали в 1789 году, хотели стать аристократами. Но зачем русские аристократы захотели стать сапожниками?"
Ядовитый этот каламбур, которому аплодировали сановные Москва и Петербург, обернулся истиной. Русские аристократы, отторгнутые обществом себе подобных, на сибирской каторге и в ссылке не только захотели, но и стали сапожниками и портными, столярами и слесарями, краснодеревщиками, рыбаками, агрономами, садоводами, огородниками, овладели навыками крестьянскими: всего и не перечислишь. Многие - по горькой нужде. Однако для них было неожиданным открытие в себе способностей, о которых они и не подозревали. К жизни их вызвали общие, артельно-общинные интересы.
О Павле Бобрищеве-Пушкине мемуаристы сообщают, что он "по математике" дошел до искусства кроить, стал классным закройщиком, а потом и портным. Произошло это тогда, когда одежда, обувь всех узников Читинского острога износилась. В захолустной Чите портные и сапожники были плохие, хотя за работу требовали немалых денег. Поняв, что эти ремесла можно освоить, Павел Сергеевич привлекает желающих. По воспоминаниям А.П. Беляева, явилась артель мастеровых, "состоящая из следующих товарищей: закройщик Павел Сергеевич Пушкин, потом брат мой (Петр Беляев. - Авт.), Оболенский, Фролов, Загорецкий, Кюхельбекер. Работа закипела".
Примерно то же произошло и с другими ремеслами: столярным, переплетным, слесарным. И также - для пользы общей.
В 1828 году, пишет А.Е. Розен, декабристам "позволили выстроить во дворе два домика: в одном поместили в двух половинах станки - столярный, токарный и переплетный: лучшими произведениями по сим ремеслам были труды Бестужевых, Бобрищева-Пушкина, Фролова и Борисова 1-го (Андрея Ивановича. Авт.).
Надо сказать, что имена братьев Бестужевых, особенно Николая Александровича, в декабристских мемуарах нередко соседствуют с именем П.С. Пушкина. Тогда, когда выражается восхищение их удивительной способностью сделать все, за что бы ни принимались их руки. Однако талант Н.А. Бестужева был настолько многогранен, перечень его умений и ремесел так длинен, что кажется за чертой доступного человеку. Именно ему низко кланяются потомки за "портретную галерею" декабристов и бывших с ними в изгнании жен, детей, за многочисленные пейзажи Читы, Петровского завода, мест каторги и ссылки, портреты сибиряков, общественных деятелей, оставивших добрую память у декабристов. Из уважения к этим постоянным занятиям по решению артели Николай Александрович был освобожден от общественных должностей.
Размеры деятельности Павла Сергеевича были несколько скромнее. Да и не было никого, способного состязаться с "человеком-университетом", как прозвали Н. Бестужева. Однако имя П.С. Пушкина - в числе первых умельцев. Мало того, все быстро оценили его организаторские способности.
В 1829 году Павла Сергеевича избрали хозяином артели. И хотя его предшественнику А.Е. Розену удалось несколько справиться с "хаотическим хозяйством" артели 1827 года, достичь такого процветания общины, как в году 1829-м, ни до, ни после Пушкина не удалось никому.