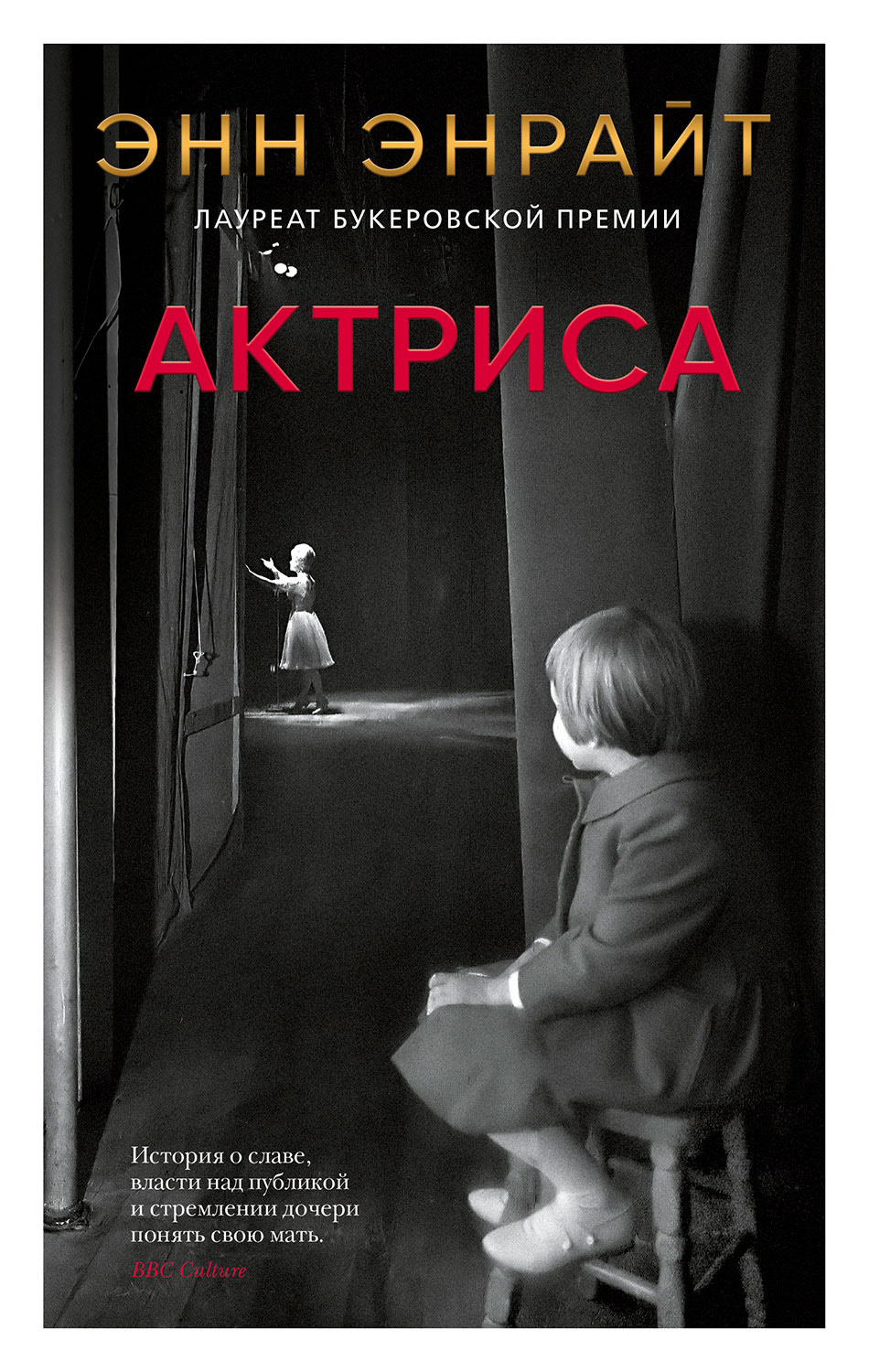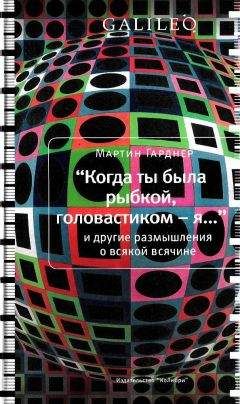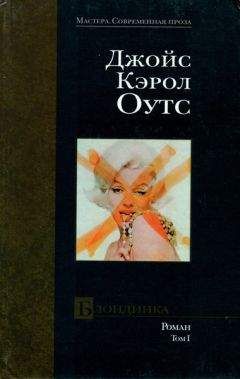не любит меня.
– Все в порядке, – уверила его я. Но я лукавила. Случилось непоправимое. И заниматься тем, чем мы занимались, мы больше не могли.
В те дни мы все существовали в каком-то полубезумии. Мужчины выходили из себя, женщины чуть что ударялись в слезы. Стоило напиться, и кто-нибудь обязательно принимался биться головой о стену или распахивал настежь окно и орал в ночную темноту. Или я все придумываю? Наш дом располагался неподалеку от канала, где часто прогуливались парочки, и зимними вечерами, насколько я помню, всегда слышались женские рыдания и мужской голос с нажимом увещевал: «Ну хватит, ну хватит уже».
Зимой случилось Кровавое воскресенье. В конце января в Северной Ирландии британские солдаты расстреляли участников марша за гражданские права; в Дублине перед британским посольством собралась толпа протестующих. До нас медленно доходили новости сначала о десяти, затем о тринадцати погибших, убитых пулями в грудь или в спину; одного застрелили с поднятыми руками. Во вторник к толпе перед посольством присоединились все студенты нашего колледжа. Мы скандировали: «Бритты, убирайтесь вон!» Лозунг казался справедливым, но на следующий день я никуда не пошла, потому что с наступлением темноты вместо камней начали летать бутылки с зажигательной смесью, а я боюсь огня.
В среду протесты усилились. В них приняли участие многие из моих знакомых студентов – многие, но не все, поскольку дело явно принимало серьезный оборот. Ночь, когда мы сожгли британское посольство, я провела в комнате Китти. Пожар пылал в двух шагах от Дартмут-сквер, и слышались крики толпы, как на матче по регби. Разве что песни звучали другие, да игра затянулась на всю ночь.
Я включила маленький телевизор в гостиной, а Китти встала рядом, забыв отложить тряпку, которой стирала пыль. В новостях рассказывали о вчерашних событиях. Два парня – до этого я их не видела – на ступенях посольства сжигали британский флаг; сквозь толпу пронесли картонный гроб с цифрой «13» сбоку. Про гроб я помнила и пыталась разглядеть знакомые лица, в том числе свое. Я хотела сказать Китти, что тоже там, вернее, была там, что парень с громкоговорителем учится в Тринити-колледже, а не в Дублинском университетском колледже, то есть он вроде как «турист» – или, может, про него говорили, что он маоист? Во всяком случае, как сказали бы наши ребята, вряд ли он был «надежным». Китти новости не слушала, но нутром чуяла, что что-то происходит. В комнату проникал слабый запах жженой бумаги.
Пока я смотрела репортаж, меня охватило странное чувство, что события, которые я вижу на экране, разворачиваются прямо сейчас, а я одновременно нахожусь в телевизоре и сижу на диване.
Потом я выключила ящик. Китти спустилась вниз, на свой вечерний обход. Я прошла через неосвещенный дом к двери, втянула носом воздух, вернулась и поднялась наверх; в заднем окне было видно огненное зарево. Я убедилась, что все двери заперты, а телефон работает. Мать была в Штатах – то ли ждала работу, то ли только что закончила работу. Немного позже она вернется, неистовая, стосковавшаяся по маршам и перестрелкам, как по ребенку, которого бросила, покинув страну. Но пока пузатый бакелитовый телефон гламурного кремового цвета в прихожей молчал, как и его бежевый пластиковый собрат на стене кухни.
Китти, которой нравилось ощущать себя страдалицей, проворчала: «Если повезет, самого кошмара я уже не увижу», – и, скрипя половицами, отправилась к себе: ее ждали кровать и еще двадцать раздраженных лет доброго здоровья, а я осталась сидеть, сначала в кухонном тепле, а потом в своей постели наверху, размышляя, что же с нами теперь будет.
Примерно в то же время мне приснилось, что ты подарил мне рыбу. Радужную форель, сказал ты, а может, радужного лосося. Тяжелая, изворотливая и переливчатая, точь-в-точь как на ирландском флорине – монете, которая как раз только что вышла из употребления. Я запомнила тот сон из-за этой рыбы-монеты (мы никогда так и не разбогатели). А еще потому, что после этого ты больше никогда мне не снился, даже когда лежал у меня под боком. И я помню эту увесистую красавицу-рыбу – таким неожиданным оказался этот сон.
На следующий день я отправилась взглянуть на разрушения. В сожженном посольстве было пусто и сыро, от крыши осталось лишь несколько обугленных балок, торчавших на фоне дождливого неба. Некоторые прохожие тоже останавливались посмотреть, а потом шли дальше. После уничтожения здания поменялись и настроения. Разговоры в колледже крутились вокруг запретных тем или вокруг политики. Особенно бушевали парни, но быстро замолкали. Как будто что-то чуяли. Как будто принимали какие-то решения, но не желали этим делиться.
Странности происходят, когда меняется мир, а для нас он поменялся в ту ночь, когда мы сожгли британское посольство. Наутро мы проснулись и продолжили жить.
В эти изменявшиеся в масштабе всей страны настроения, словно пташка в окно, впорхнула моя мать.
Еще не кончился март, а она уже вернулась. Однажды днем, когда я пришла домой, она спала наверху. Посреди ночи я услышала, как она разговаривает по телефону на кухне. Я спустилась к ней в халате, и она меня обняла:
– Как ты, детка? Как поживаешь?
Она еще плохо соображала после смены часовых поясов. На столе образовался завал из книг и газет. Валялась и пара обтрепавшихся по краям коричневых конвертов со сценариями.
– Я так за тебя волновалась, – сообщила она.
– Со мной все было в порядке.
– Как тут все это проходило?
Но ничего «этого» больше не было. Никаких новых маршей, и уж точно никаких самодельных бомб, только слухи. Поговаривали, кое-какие ребята носят в своих брезентовых сумках черные береты. Брендан Максорли из Уайкинстауна обзавелся балаклавой, как у членов ИРА; вытащил ее в баре «Тонерс» и натянул на голову, тут же превратившись в какое-то древнее чудовище. Он оглядел остальных и засмеялся; в криво вырезанной дырке для рта блеснули зубы.
Бармен выскочил из-за кранов с пивом так быстро, словно перемахнул через стойку. Сдернул с Брендана балаклаву и вытолкал его взашей; балаклава полетела за ним вслед. Назад бармен вернулся, кипя от злости, готовый к драке; мы видели, как дрожали у него прижатые к бедрам пальцы.
К моменту приезда матери настоящие парни в балаклавах взорвали пару бомб: одну в Англии, другую в Белфасте. «Айриш таймс» напечатала фотографию: на тротуаре, раскинув руки, истекает кровью мужчина в деловом костюме и при галстуке. Ничем не примечательный, скучный человек, из тех, что стоят перед вами в очереди в банке, умирал на земле, и уже не от моей бомбы. В «Тонерсе», правда, кое-кто высказался одобрительно, но так, как выражают удовлетворение результатом