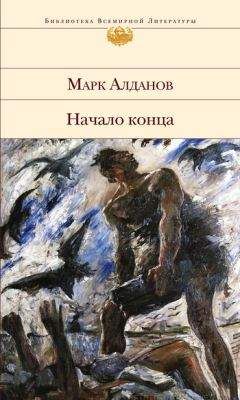– Вы, очевидно, ее мать?
– Да.
Еще внимательнее на Бальмонта.
– А вы отец?
– М-м-м-да.
Доктор развел руками.
– Ну так чего же вы от нее хотите?
Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные деньги делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.
Как нимб, любовь, твое сиянье
Над каждым, кто погиб, любя.
Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.
Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любуется ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья и смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов.
Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности».
– Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, – говорил он своей Елене.
Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:
– Елена была еще в своем ночном лике.
Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.
Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?
И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренно. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».
Простая фраза – «Муж хочет пить» на их языке произносилась, как «Поэт желает утолиться влагой».
Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и вызывалось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бо-бо» – вместо больно, «баиньки» – вместо спать, «бяка» – вместо плохой. Чего только не проделывает любовь с бедным человеческим сердцем.
* * *
Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно приветлив и ласков.
– Вы ездили в Виши?
– Да, ездила. Только что вернулась.
– Гоняетесь за уходящей молодостью? (Это, очевидно, «хочу быть дерзким!»).
– Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.
И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским, и он смеется.
То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию – отпущение грехов.
– За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.
– Неужели двух? – обрадовалась я. – Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.
* * *
Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный Театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей Птицы».
– Он долго не пускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец, слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного Театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.
* * *
Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.
Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.
Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали и громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик, с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.
И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.
В замке был веселый бал,
Музыканты пели…
Бальмонт!
И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка, бабочки кружатся и мелькает в пруду волшебная рыбка.
И от рыбки, от нее
Музыка звучала…
Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.
– Милый Бальмонт!
Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вынесли синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.
Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.
Совсем отдельно ото всех стоит красочная фигура Игоря Северянина.
Он появился у меня как поклонник моей сестры Мирры Лохвицкой, которую он никогда в жизни не видел.
Начал он свою карьеру не очень скромно, заявив:
«Я – гений, Игорь Северянин…»
Тогда это было еще совсем ново. Потом это уже никого бы не удивило.
Игорь писал стихи о том, что всюду царит бездарь, а он и Мирра в стороне. Ну про Мирру этого нельзя было сказать. Ее талант был отмечен тремя Пушкинскими премиями и четвертой посмертной[5].
Игорь был большого роста, лицо длинное, особая примета – огромные, тяжелые, черные брови. Это первое, что останавливало внимание и оставалось в памяти. Игорь Северянин – брови. Голос у него был зычный, читал стихи нараспев.
Первый раз выступил он перед публикой на вечере у студентов, кажется, технологов. Этот вечер был устроен студентами для меня, то есть я должна была читать, а они продавали программы с моим портретом и автографом. Я взяла с собой Игоря.
Вот Игорь вышел на эстраду и начал:
Как мечтать хорошо вам
В гамаке камышовом,
Над мистическим оком, над бестинным прудом…
Молодая аудитория – студенты, курсистки – переглядывались, перешептывались, пересмеивались. Не понимали – хорошо это, или просто смешно.
Я была серьезна и слушала сосредоточенно. Надо было постараться, чтобы публика Игоря приняла. Когда он кончил, я подошла к эстраде и торжественно поднесла ему букет голубых тюльпанов, только что появившихся в продаже и одобренных нашими эстетами «за ненормальность». Так как на этом вечере я была ведетта, то такое с моей стороны уважение к таланту Северянина много подняло его в глазах публики. Стали аплодировать и просить еще. Так произошло крещение Игоря. А года через два, когда он понравился Сологубу и тот повез его в турне по всей России, он вернулся уже прославленным поэтом и никого не смущало заявление с эстрады, что он гений и что у него «дворец двенадцатиэтажный, у него принцесса в каждом этаже».
Первые стихотворения его были чересчур галантерейные. Вроде цветочного одеколона. В них много говорилось о платьях муаровых, интервалах брокаровых. Потом, при помощи Сологуба, цветочный одеколон исчез. Сологуб помог ему выпустить книгу, которую окрестил «Громокипящий кубок».
Книга имела успех у читателей. Критика отнеслась к ней холодно. Он не сеял разумного, доброго, вечного, за что потом сказал нам «спасибо сердечное русский народ». И он не был поклонником Оскара Уайльда. И даже не был сотрудником «Сатирикона», что тоже являлось некоторым правом на существование. Он был как-то сам по себе. «Я гений Игорь Северянин» и кончено. Но, повторяю, он завоевал себе известность, о нем говорили с усмешкой, но его знали.
«Моя двусмысленная слава,
Мой недвусмысленный талант».
Всем запомнилось его забавное патриотическое стихотворение, где он говорит, что в случае военных неудач:
«То я, ваш нежный, ваш единственный,
Сам поведу вас на Берлин».
Но, будучи призванным, оказался к военному делу неподходящим, и по самой странной причине – он никак не мог отличить правой ноги от левой. Кончилось тем, что его отправили в лазарет.
Он чтил во мне сестру Мирры Лохвицкой и в стихах называл меня «Ирисной Тэффи», но виделись мы редко.
«Наши встречи – Виктория Регия –
Редко, редко в цвету».
Он как-то приезжал в Париж. Ему устроили вечер. Жил он в Эстонии, жил очень плохо.