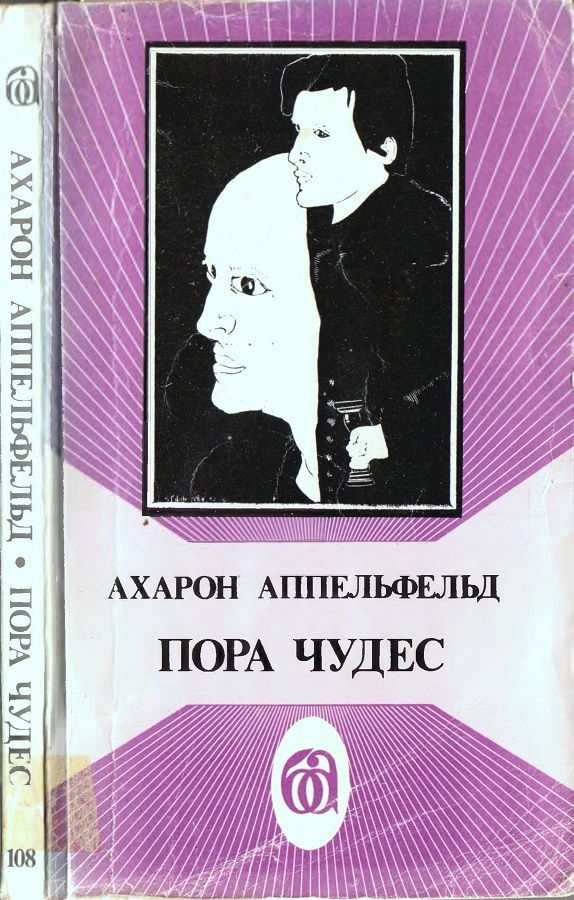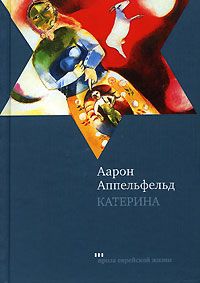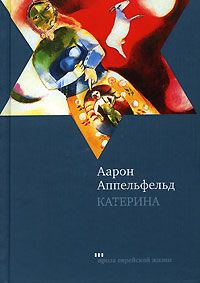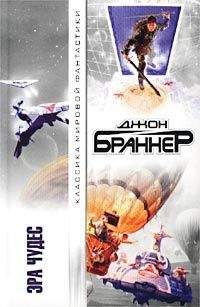он вышел из тени и вошел в другой теневой круг, почти пропав из виду.
В ”Цветочный букет”, рядом, за углом, Бруно завернул почти машинально. От непоколебимого голоса Брума его пригвоздило к месту, и в такой безвыходности, точно ища куда спрятаться, он вошел. Здесь была тишина, какая царит лишь в старых деревянных домах. Бруно снял почему-то шляпу, и в ноздри ему ударил запах кофе с цикорием.
Сюда он ходил с мамой каждый вторник в ранние послеобеденные часы. Было это после изнурительных уроков латыни, когда уже ум заходил за разум. Во время этих незабываемых коротких походов обычно ничего особого не происходило, но они оставляли после себя долгую сладость, проникавшую в его сон вместе с парами цикория. По вторникам после обеда здесь сидели пенсионеры, погруженные в гордое одиночество; но прелесть сообщала этому месту его хозяйка — Лонка, она и ее славянский говор, так живо и жизнерадостно звучавший на фоне чопорной мещанской церемониальности. ”Мальчик уже пьет кофе?”, — бывало спрашивала она. ”Кофе — и молока побольше”, — говорила мама с нежностью. Лонка хваталась за голову: ”Удивительно еврейское личико! Вот лицо, которое я люблю”. — ”Зачем вам публично выставлять мальчика на позор?” — шептала мама, подмигивая. ”Мадам, — говорила Лонка, — нет лучше людей, чем евреи, я выросла среди еврейских студентов”. — ”Раз так, я капитулирую”, — отвечала ей мама в тон. А Лонка говорила: ”Моя страсть к евреям, мадам, не знает предела”.
Он осмотрелся и обрадовался: ничего не изменилось. Переднее окно, широкое, убранное голубыми домашними цветами, выражало естественную скромность, как всегда. Запах кофе стоял в воздухе, насыщенном его тонкими, незримыми испарениями. Здесь, как в старых кафе, были освещенные и полуосвещенные уголки. У переднего окна, украшенного голубыми домашними цветами, сиживали они с мамой, сидели подолгу и слушали музыку.
Так он стоял и дивился, когда появилась старуха и сказала громко, как глухая: ”Что мы принесем господину?” Это была Лонка. От ее пышных каштановых волос не осталось ничего, кроме редкого седого пуха. Уши обнажены, и рот, словно готовый разразиться потоком невнятной речи.
— Кофе с цикорием, пожалуйста, — сказал Бруно.
— С удовольствием приготовим, — сказала старуха и зашаркала в заднее помещение. В этот час за столиками никого не было. Щедро сиял обильный весенний свет. Позади сидели, бывало, отец с дядей Сало, ссорились или молчали; та, затененная часть помещения принадлежала к его сомнительным тайнам; переднее окно, широкое, убранное голубыми цветами, было секретом его и мамы, которым владели они одни.
— Кофе с цикорием, — прогундосила старуха, неся в трясущихся руках поднос, как старухи несут святые образа в капеллу.
В те дни, такие юные и светлые, была Лонка стройна и молода, с неукротимой копной волос. В глазах у нее блестел задор трактирной девки, выросшей в трактире. И, когда приезжали гости из Праги, молодость ее расцветала цветением свободы. Австрийцев она не уважала. Переехать сюда ее уговорил ее муж, австриец. Она не могла ему этого простить.
По воскресеньям, когда муж отправлялся в объезд сельских харчевен у реки, поболтать в обществе друзей молодости, крестьян и фабричных, она давала себе некоторую волю. Подсаживалась к студентам и рассказывала им о студенческой жизни в Праге. Отец ее держал трактир возле университета, и студенты кутили у него до поздней ночи. Там она выучила несколько слов, которыми усиленно щеголяла. Муж воспоминаний ее не терпел, говорил презрительно: ”Жалкая пражская память”. В минуту освобожденности она призналась матери Бруно, что, не соблазни ее этот австриец, сиречь муж, она вышла бы за еврея. О евреях она говорила по секрету, с лицом, как у обманщиц, когда они кому-нибудь доверяют правду.
Он был совсем еще ребенком, когда в одну из суровых зим Лонка начала слишком часто прикладываться к бутылке, повела себя очень вольно и однажды объявила:
— Да здравствует великая чехословацкая республика, честь и слава еврейским студентам, за то что они дарят чешским девушкам изящную и секретную любовь!
Все ошалели. Деверь, брат ее мужа, попытался скрутить ей руки, но она с пьяных глаз продолжала кричать свое и тогда, когда ее заперли в туалет. Тяжелая была сцена. Мать Бруно попробовала вмешаться, но деверь разорался, завязал ручку двери веревкой и поклялся, что ей больше не выйти оттуда. С той поры Лонка очень переменилась лицом. Она редко выходила, и ее муж завел в своем заведении манеру зычного, крикливого разговора.
— Еще чашечку? — спросила старуха громко.
— Еще одну, прошу вас.
Уже два дня как он здесь. Эта ясность выше силы его восприятия. Поэтому он далеко не ходит. Сидит в центре городка, но и в центре все осталось, как было, знакомое до боли. В свое время не было тут ночных клубов. Были кафе и трактиры. Гимназисты отправлялись вниз в южный квартал и ловили там первую свою добычу, деревенских девок. Назавтра они приносили оттуда спесивый блеск и много ненависти к евреям. На уроках религии, два раза в неделю, они смущали патера своими вопросами, пока тот не разражался горестным воплем: ”Подонки!”
Несколько раз они и Бруно подбивали присоединиться к ним. Но, поскольку приманка была умышленной и злостной, он держался в стороне от этих грязных ночных сборищ, происходивших возле железнодорожной станции. Конечно, он поплатился за свой отказ и вскоре заработал прозвище ”еврейский трус”. Верно, что ростом они были выше его, но зато он был куда более гибок, чем они, и на уроках гимнастики отличался в лазаньи по шведской лестнице.
Эти мелкие подробности, годами не всплывавшие в его памяти, выскочили теперь из своего тайника. Будто и не мелочи, поросшие травой забвения, а животрепещущие ощущения. В последние жуткие месяцы, когда он был изгнан из гимназии, а они, понадевав коричневые мундиры, все толпились у молодежного клуба, он сидел сиднем в своей комнате, сражаясь с трудными латинскими текстами. Сумятица была страшная, но его мать не сдавалась. Человек в конце концов не животное. И вот так, в то самое время, когда все предвещало надвигающееся землетрясение, он ломал голову над задачками по алгебре и разбирал длинные, запутанные предложения. Такова была воля матери.
Он встал. На мгновение ему захотелось открыться Лонке, но тотчас же он сообразил: Лонка очень стара. Не стоит волновать в таком возрасте.
— Кофе был преотличный, — сказал он.
— Я рада. — Она повернулась и пошла прочь, не глянув на него больше.
Апрельское солнце