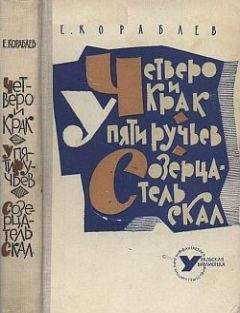Борвенков опять огляделся вокруг, на этот раз, как мне показалось, с тревогой, будто отыскивая что-то. Потом сказал:
- И вот, глядите, прошел денек. Опять денек прошел. Смеркается. Время быстро идет. Ох, до чего быстро. Ровно вчера все было. И я молодой, глупый был. Умнее-то я вроде не очень стал, - конфузливо улыбнулся он. - А вы, наверное, устали от меня, от моего разговора. Думаете, наверно, что это за чудик такой попался. Говорит и говорит, как я не знаю кто. А я и вправду остановиться не могу. Ну с кем я мог бы в другое время вот так поговорить на родном или даже другом языке? С детьми моими я обо всем говорить не могу. И не хочу: они еще, понятно, дети. С немцем, моим компаньоном Куртом Фогелем, тем более разговора особого быть не может...
- А немец ваш тоже на свою родину ехать побаивается? - спросил я. Тоже что-нибудь такое натворил?
- Не знаю. Я с ним уже здесь познакомился. Рассказывал он, что воевал у нас в России. И там в плену был. Не очень шибко, но может говорить по-русски. Собирается даже поехать туристом в Сибирь. В тот лагерь, где жил в плену, под Красноярском. Говорит, хорошая земля. Вот, говорит, где можно делать дела. И народ, говорит, хороший в Сибири. Вспоминает, что русские кормили пленных даже много лучше, чем ели сами. А в свою Западную Германию - называется Феэрге - он ездит каждый год, когда здесь подступает самая жара. У него там, в Германии, два дома. И тут собственный дом. Я при нем, по-настоящему-то если говорить, больше рабочий, чем компаньон. У него в деле два пая, у меня - один... Для чего я вам все это рассказываю, непонятно. А обезьяна, глядите, снова прислушивается. Может, куда-нибудь все это, что я тут болтаю, сообщить хочет? В Освенциме был тоже такой человек, не один, конечно, он был, но я его часто вспоминаю. Из-за него я, понимаешь, тоже чуть в печку не угодил. Тоже из-за моих разговоров.
Всю жизнь я любил поговорить, - печально усмехнулся Борвенков и вздохнул. - И вот, видите, выходит, уже и поговорить не с кем. Ну, ладно, пойдем к Василию Митрофановичу. Вон уже видно ихнюю, как по-нашему, по-русски, сказать, веранду...
В здании госпиталя горел свет, когда мы поднялись на его каменные ступени. В просторном остекленном вестибюле в уютных кожаных креслах сидели ожидающие приема.
К нам вышла темнокожая женщина в белоснежном халате и высоком накрахмаленном чепце. Борк-Борвенков, кивнув на меня, сказал ей что-то на местном языке.
- Главный врач еще занят, - сообщила она по-русски с легким акцентом, с достоинством поклонившись мне. - Василий Митрофанович безусловно вас примет, но чуть позднее. - И приложила палец к пухлым коричневым губам. Очень, извините, трудный случай. А вы пойдемте, - сказала она больному с костылем, сидевшему первым у двери. И, вспомнив, очевидно, что больной не понимает по-русски, перевела эти слова.
- Врачиха, - пояснил мой собеседник. - Двоюродная сестра моей покойной Офы. Виргиния. Одинокая. Умница. Училась во Франции. Потом еще в России, в Советском, одним словом. Союзе. Хотел на ней жениться после смерти Офы. Отклонила. Куда там. Она же образованная. А я кто?
Виргиния еще два раза вышла, приглашая больных. На нас она больше не обращала внимания.
Наконец в вестибюле появился, чуть прихрамывая, мужчина лет, может быть, под шестьдесят, невысокого роста, в очках чуть не во все лицо, в соломенного цвета усах, в зеленом халате, надетом, как пальто, застежка впереди.
- Кто меня спрашивал?
Мой собеседник тотчас же вскочил.
- Вот, Василий Митрофанович, тут из Москвы. Один гражданин. Хотели вас видеть. Вот я их привел. Они тоже, как мы, русский...
Василий Митрофанович протянул мне руку, спросил сухо:
- Здоровы?
- Вполне, - сказал я, несколько задетый странностью вопроса.
- Тогда еще минуточку попрошу вас подождать. Есть некоторая неотложность. - И подошел к больному негру с толсто забинтованной шеей. Заговорил с ним на местном языке. Потом по-русски сказал подошедшей к ним Виргинии: - Отведи его, пожалуйста, в боковушку. Придется его опять положить. Вот здесь давайте присядем, - кивнул он в угол вестибюля, где возле большого торшера стояло два кожаных кресла. - У вас есть ко мне вопросы?
Я сказал, что вопросов нет. Просто я хотел повидать его после всего, что слышал о нем. И пересказал услышанное. Может быть, он еще что-нибудь расскажет о своей, в сущности, необычной деятельности.
- Почему же необычной? Врач при всех условиях врач, - оглядел он меня довольно строго. - Послали нас сюда с женой на четыре года, но пробыли мы значительно больше. Так получилось. А что касается разговоров обо мне, так тут есть нечто от легенды. Кстати, этого охотника, о котором вам пастор рассказывал, не я оперировал. И, если уж на то пошло, его оперировал действительно московский доктор. А мне этот титул присвоили вовсе незаслуженно. В Москве я никогда не работал и не жил. Вероятно, особого значения это не имеет, но, если вы захотите написать, может получиться претенциозно. И неверно. Лучше мы познакомим вас с действительно московским доктором, с тем, кто делал ту операцию. У нас к тому же не один московский доктор, а целых два... Гиня, - повернулся он к Виргинии, позови, пожалуйста, Горация.
В вестибюль минут пять спустя вошел стройный темнокожий молодой человек с черными курчавыми волосами.
- Вы звали меня, доктор Ермаков?
- Вот это московский доктор, - показал на него Василий Митрофанович. Они с братом учились и кончили в Москве. А я всего-навсего в Томске. Тут вспоминают, Гораций, как ты в прошлом году оперировал того охотника из Маран-бье...
- Да, - кивнул Гораций. - К сожалению, не весьма удачная операция. Ему еще придется приехать к нам.
- А девочку ту на дыхательных путях действительно оперировал я, сказал доктор Ермаков. - И про кондитера с тортом это тоже верно. Чудак такой. И он меня московским доктором называл. Ничего обидного в этом, естественно, нет. Даже лестно. Но получается, как бы чужую славу присваиваю. В Москве я был всего один раз, нет, извините, два. И жена у меня почти что москвичка: училась в Москве. А под Москвой мы вот с ним, впервые он будто случайно заметил моего спутника, - крепко побывали в сорок первом, осенью. Точнее, под Можайском. И одинаково нам попало по ногам. Ему, кажется, без серьезных последствий, а я месяцев пять пролежал в Саратове в госпитале. Чересчур способные студенты так прооперировали, до сих пор прихрамываю. Да бог с ними. Не так уж много и прихрамывать осталось. Скоро собираться.
- Куда?
- Ну куда мы все в конце концов собираемся.
Гораций засмеялся.
- Доктор Ермаков, что это? Вы сегодня не в своем, как это, не в своем оптимизме...
- Устал я, - вздохнул доктор Ермаков. - Оперировал сейчас на кишечнике. И у самого живот разболелся. Я вот так же, как и он, потом был ранен в живот, - опять кивнул он на моего спутника. - Только на другом фронте и...
Доктор Ермаков, явно что-то не договорив, внезапно поднялся.
- Извините, я должен опять пройти к больному. Есть еще одна неотложность. Если можете и хотите, подождите меня немного...
Ушел. Потом позвали Горация.
Мы остались в вестибюле вдвоем с моим спутником. Больных больше не было. Их всех развели.
- Вот видели, - сказал мой спутник Иван Алексеевич Борвенков. - На букве "и" наш доктор остановился. Вы заметили: проговорил букву "и", поглядел на меня, хотел еще что-то такое выговорить. Конечно, насчет меня. Насчет того, как и кто и за что меня ранил. Я же это хорошо понимаю. Вот он мне и операцию прямо отлично сделал. Боли начисто прекратились. А все равно признавать меня за человека не желает. Просто в упор меня не видит. И в палате после операции я вот так же лежал. Придет, всех нас осмотрит, всех черненьких обласкает, а меня только спросит: "Жалоб нет?" И все. Один раз поговорил он со мной подробно, единственный только раз, перед операцией. Это у докторов называется - анамнест. Расспросил, где родился, какие родные, на каких фронтах воевал. Я ему чистосердечно во всем признался. А чего скрывать? И он сразу, я заметил, ко мне переменился. Как будто я не русский, не земляк его. Одним словом, я же говорю, в упор меня после этого не видит. И сегодня только при вас вот так на меня поглядел. Хотел вроде что-то обо мне сказать. Ну и сказал бы хоть самое матерное слово. Все-таки мне легче было бы. А то до каких же, ну, я не знаю, пор это может продолжаться?
Опять вошла Виргиния, сказала, что Василий Митрофанович просит его извинить: он не может выйти, того больного сейчас во второй раз положат на операционный стол.
Нам с Борвенковым ничего не оставалось, как уйти. Борвенков что-то, должно быть, любезное сказал Виргинии на прощанье на местном языке. Она ему ответила, как мне показалось, не очень любезно.
...Только у подъезда больницы было светло. Горел на крашеном столбе фонарь. А весь городок лежал в темноте. И спускаться с холма стало много труднее, чем было подыматься.
Борвенков шел где-то рядом со мной, но я только слышал его голос, а самого различал с трудом. И голос его звучал как бы издали.


![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)