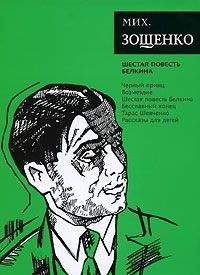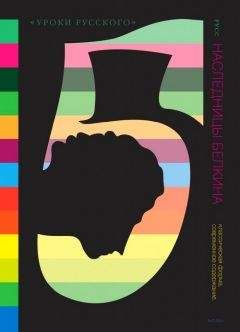Зина лежала на диване, розовая и жаркая. Льняные шторы в огромных черно-зеленых цветах и листьях тяжело обвисали в душном, горячем полумраке комнаты. Она читала...
- Может, ты хочешь прочитать стишок? - повернулся я к сыну.
Он молчал, его белесо-серые, как у меня, глаза выражали недовольство.
- Мы займемся стишком завтра, - сказал сын.
- Хорошо, мы займемся этим вечером, - сказал я. - Теперь мы пойдем на пшеничное поле.
* * *
Сын скакал, держась за мою руку.
- Папа, если завтра - это завтрак, то обед - это сегодник?.. - звенел он, не останавливаясь. - Мама, мама, мы идем ловить кузнечиков!
- вдруг закричал он, вырвавшись вперед. Зина шла с бидоном керосина в руках, взопревшая от жары и тяжести. Слипшиеся волосы делали ее голову маленькой, несоизмеримой с телом.
- А я думала, вы идете встречать меня, - сказала она просто. - Ну, ничего, это не тяжело...
Я прошел мимо твердой, собранной походкой, видя ее уголками глаз.
Любви к Зине в моем сердце давно не было. Я не любил ни ее фигуру, ни ее губы, ни ее стан, образ жизни...
Воспоминание нового впечатления всплыло из памяти, словно опалило..
На поэтическом вечере я встретил черноволосую красавицу. Небольшого роста, с серыми глазами. У нее была такая фигура, от которой перехватывало дыхание...
Все началось просто - я нечаянно наступил ей на ногу, когда крутился вокруг модного поэта, чтобы показать ему свое "творчество". Известный поэт срывал аплодисменты. Она тоже крутилась вокруг модного поэта, чтоб сделать репортаж в газету. Она была фотожурналисткой.
И я нечаянно оттоптал ей ногу. Просто пятился назад, а было тесно.
- Простите, Бога ради! - воскликнул я, готовый сгореть от своей вины.
Но она была занята так, что только поежилась. Глазами, однако, стрельнула в мою сторону. Меня же просто поразила ее красота...
В тот же вечер я увидел ее по дороге на автобус. Она слегка прихрамывала.
Я догнал ее.
- Давайте понесу вашу камеру, - предложил я.
Она легко и просто согласилась.
- Может, пойдемте до следующей остановки? - спросил я. Совсем забыл, что она хромает и, спохватившись, что сказал, чуть покраснел.
- Пойдемте, - легко согласилась она, опять кольнув меня взглядом.
- Как вас зовут?
- Тоня.
Я чувствовал себя с нею легко. Она была так проста в общении и гармонична.
Я позвонил по телефону. Оказалось, что номер верен...
Была весна. Я пригласил Тоню в общежитие к другу. Никого не было. Бутылку вина мы выпили быстро. Шутили, смеялись...
- Я люблю тебя, слышишь! - шептал я.
Мы оказались на диване. Я задыхался, срывал с нее платье. Целовал ее губы, руки, шею. Она так была мне нужна...
Не помня себя, я вонзил в ее тело, дурманящее, нежное, теплое, свое огненное, жаркое. Она обмякла, застонала. Страшная, дикая сила захватила меня. Острый ее пот бил в ноздри, возбуждал, наполнял новой силой. Все больше и больше. И вдруг все вокруг раскололось, взорвалось. Меня словно опрокинуло, выбросило...
- Это же надо, чтобы жизнь зарождалась в таком безумстве, - пробормотал я.
- Такого счастья я не испытывала никогда, - прошептала Тоня. -Ты сумасшедший! Как я теперь на люди покажусь?
- Ничего, мы завтра купим новое, - сказал я.
- Как завтра? Я не могу, - заплакала Тоня.
Я тоже не мог. Я был женат...
* * *
- Папа! Папа! Поймай мне бабочку, вон ту, красноцветную! - кричал в стрекочущей, звенящей траве сын.
Мы сели у копны.
- Ну, вот, теперь мы будем жить в копнах, - сказал я.
- А что мы будем варить? - спросил сын.
- Кузнечиков, - сказал я.
- А кто у нас будет мама?
* * *
Влажное солнце огромной каплей медленно падало на землю. Подсвеченные сзади облака гвоздиками стояли в небе. Первыми ощущают вечернюю прохладу ноги - земля остывает быстрее воздуха.
- Папа, затопчи муравьев, - сказал сын, сидя на горшке. - Они лезут не в свои дела.
- Мы уезжаем завтра? - спросила Зина.
Я молчал. Я надевал ботинки, вымыв ноги на траве из лейки.
- Господи! Если бы не мое чувство юмора, я не знаю, как тебя можно было бы вынести, - сказала Зина, отваривая только что собранные розовые волнушки. Она была простодушно настроена.
- Хоть бы здесь взглянула на себя со стороны, - буркнул я.
- А я самокритична, - сказала жена.
- Если бы ты только могла посмотреть на себя со стороны! - вырвалось у меня. - Пора бы отличать взгляд со стороны от самокритики, - решил я как-то сгладить свою грубость.
- Одно время я действительно думала, что во мне что-то не то. Но вот сейчас читаю Кузьминскую и вижу, что я почти как Лев Толстой, и что я все переживаю, - рассуждала Зина.
- Ты даже отвратительно толстая, - резко скаламбурил я. - Надо только правильно расставлять ударение.
- Одно я не пойму, как можно общаться с человеком при такой ненависти к нему, - вытаращила глаза оскорбленная Зина.
Я видел, как задрожали ее поджатые, как у подростка, собирающегося заплакать, губы.
- У меня и нет с тобой никакого общения, - сказал я и вышел из домика, опять больно ударившись лбом о дверной косяк.
* * *
В дверь калитки тихо вошла моя мать. Я стоял злой, ушибленный. Я не любил Зину.
- Ну, как вы тут? - спросила мать, закрывая за собой калитку, которую давно пора было чинить.
- Хорошо, - буркнул я.
- Ну, слава Богу. А где же Алеша? - спросила мать.
- Они уехали.
- Поругались, что ли?
Я умывался под рукомойником, прикладывая холодную воду к шишке на лбу.
"Нельзя больше встречаться. Сейчас вот, если хочешь остаться честным.
И не мучить ни ее, ни себя", - думал я лихорадочно и зло. - "Сейчас вот, если остаться честным. Видеться больше нельзя... А как же сын? Такое чувство, словно все тонет. И уйти-то некуда. Опять снимать комнату?.."
- Я хотела, чтоб все было хорошо, чтобы вы отдыхали...- причитала расстроенная мать, прикладывая намоченный платок к моему воспаленному лбу.
Как в детстве, когда я болел ангиной.
* * *
Гранатовая луна полыхала в горячем пепле. У горизонта она казалась неестественно огромной, жаркой, жуткой...
Я задыхался и шел и шел полем мимо копен скошенной пшеницы. А в ушах стояли слова:
- Ну вот, теперь мы будем жить в копнах.
- А что мы будем варить?
- Кузнечиков.
- А кто у нас будет папа?
3. ГОСТЬ
Старая гнусавая шарманка - Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов - хорошая приманка, Подлецам - порядочный улов.
С. Есенин. "Страна негодяев."
Женившись на Зине, я вроде жил в семье, а семьи словно и не было. Я не пил, вернее, старался не пить. В этот период я начал писать. По большей части оттого, что хотелось высказаться. Были, конечно, и жажда славы, и жажда утоления гордыни. Но одно - жажда высказаться, жажда сказать другим что-то, как я считал, очень важное, - пересиливало все. И именно тогда ко мне прицепилось это странное словосочетание: сексуальная неудовлетворенность.
Прицепилось, как репей за шиворот.
Мало кто знает, что это такое. Я и сам этого никогда бы не узнал, если бы...
Я вспомнил, как в детстве в деревне меня клала на себя, голого, двоюродная сестрица моя. Тогда мне и в голову не могло прийти, что это называлось "иметь женщину". И какое же это было нестерпимое наслаждение!..
Я понимал тогда, что об этом никто не должен знать. Я понимал, что этого, конечно, нельзя делать, но от природы я был послушным. Тем более что меня не просили делать ничего ни страшного, ни болезненного.
Я понимал и молчал, когда сестрица просила меня, чтобы никто не знал и то, что она "примеряла" на себя и своего родного брата, моего двоюродного...
Но взрослым было не до нас. У них, у взрослых, в ту страшную войну, была одна жажда - жажда выжить! Когда было думать о детях! А для нас, для детей, с нами мог быть только тот, кто мог бы быть с нами всегда.
Но его-то и не было ни в общественной, ни в коммунистической морали!
Бога-то и не было в коммунистической морали...
Может, с тех времен во мне и зародилось это представление о "сексуальной удовлетворенности". Может, с тех времен во мне и зародилось это представление о счастье, о должном счастье?
Кто знает...
И как это ни странно, но писательство свое я скоро бросил. То ли оттого, что прочел, как Достоевский писал от своей "сексуальной неудовлетворенности"?
То ли оттого, что на одном поэтическом вечере встретил однажды ту черноволосую красавицу, влюбился в ее серые, с искоркой глаза...
* * *
Я оставил Зине с сыном двухкомнатную квартиру. Сердце холодит при мысли, что совершил тогда очередную свою подлость, как это теперь было очевидно.
Но тогда я этого не понимал. Улучшение жилищных условий предлагалось тогда либо всей семье, либо только молодоженам.
Я выбрал второе. Отец, мать и сестренка мои остались в той комнатушке на Воронцовском кирпичном заводе. Я же опять снимал комнату...
После долгого отсутствия я приехал на Ульяновскую улицу, чтобы повидаться с сыном. Зина растерялась - в квартире был Гость...