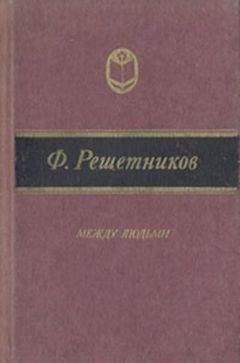— Ничего. С семнадцати лет в обозах хожу, а теперь никак, с нового года, сорок первый пошел… Брюхо только што-то, господь со мной, покалыват.
— Это оттого, что ты наелся-то ловко, да потом и лег животом на воз, а трясет-то знатно, — объяснил я.
— Не знаю… Не оттого это: прежь не баливало же.
— А я вот што хочу тебя спросить, Семен Васильич: пошто это у вас одни лошади привязаны к телегам, а другие нет?
— О, будь ты за болотном! и этого-то не знашь: уж заведенье такое.
В это время у одной его лошади дуга развязалась, и он остановил свою переднюю лошадь; половина обоза пошла, оставив за собой другую половину обоза, которая стояла. Я слез с телеги.
— Скорее копайся, вахлак! — кричал на Верещагина лежащий на возу ямщик.
— Ну-ну!.. о, будь ты за болотцем, козленок! Ишь ведь, все непорядки у тебя, соколик, — наговаривал лошади Верещагин; но лошадь только тяжело вздыхала, изредко переминаясь с ноги на ногу.
— Скоро ли?.. Аль ночевать нам здесь? — кричал ямщик сзади. Голос его далеко раздавался в лесах.
Верещагин слегка свистнул передней лошади, и она пошла. Он сел на козлы и стал погонять ее витнем. Лошади пошли несколько скорее прежнего, и через четверть часа мы нагнали другую половину нашего обоза, которая поджидала нас.
Стало темнеть; свежо так, что меня, в легком пальтишке без подкладки, стало пробирать, но зато теперь было не в пример лучше того времени, в которое мы выехали из города: главное, мне казалось, что пыль не попадала в рот, а садилась скоро опять на землю; дышалось свободнее. Я шел по мягкой траве, растущей около телеграфных столбов, и пел, от избытка чувств, во все горло, не обращая внимания на часто проезжавшие тройки, с закрытыми фартуками повозками.
Должно быть, было часов десять, а темно. Привлекательного ничего нет, вероятно потому, что я мимо этих мест проезжал не один раз, да и что привлекательного в небольших холмах, кустарниках березы, тощих полях, покосах, на которых разложены огоньки… Вот наконец попало какое-то село. Проехали несколько домов, в окнах огня не видно, на трактовой улице пусто, на одной телеграфной проволоке бечевочка болтается. Не спит только один кабак; я пошел в него и позвал Верещагина; он пошел с удовольствием, сказав: теперь к ночи — холодно будет еще не так, особливо на этих горах.
— А ты будешь спать? — спросил я Верещагина.
— Нет. Ночью боязно. Хоть место и не опасное, да все же. И пора-то хорошая: днем жара… Дождичка бы.
В кабаке сидела женщина. Выпили.
— А есть у те, тетушка, огурчики? — спросил я ее.
— Где бы я взяла?
— Не садите?
— Не родятся.
У нее я купил два яйца.
Опять пошли. Верещагин, похлопывая по траве витнем, напевал, тоже верно от избытка чувств: «милосердие двери разверзи, благословенная богородица дева…» Однако скоро замолчал.
С час я шел с Верещагиным. Это был человек неговорливый: он или насвистывал сквозь зубы, или что-то мурлыкал и на редкие мои вопросы отвечал. От него я только и узнал, что он ямщичит двадцать лет; имеет три лошади, остальные лошади принадлежат другим ямщикам; что в ихнем обозе теперь идет девять ямщиков; те лошади, что идут на привязи, принадлежат разным ямщикам, и в обозе есть начальник, Андрей Степаныч Крюков, который ведет четыре лошади, но в чем заключается его начальство, он не объяснил. Девять ямщиков, одевшись в свои зипуны, шли около телег молча. Переговаривались они неохотно и очень редко.
Залез я в телегу, прикрылся, как можно плотнее, пальтишком, но от холода не мог заснуть. Бока болели, ноги ныли, верхняя часть лба так чесалась, что не рад был и житью. Припомнилось мне о том, как я прежде, в детстве, ездил с почтами, сидя на чемоданах. Я тогда то же испытывал, что и теперь, сидя в телеге, но зато не ходил и ехал очень скоро.
И все-таки я заснул. Проснулся. Холодно. Пальто открывать не хочется, но мне кажется, что телега стоит. Да. Ее не взбалтывает на разные манеры, лошади стучат копытами, хрумкают… Я открыл пальто и взглянул: темно.
Кое-как я увидал в темноте бревенчатую стену. Я встал, поглядел в другую сторону и узнал, что я на постоялом дворе, под навесом. Направо высокое крыльцо, окно видно в доме; солнце уже начинает пробиваться в верхний угол стекла. Ямщиков нет. Я пошел к крыльцу, поднялся: большие сени, вроде темной комнаты; налево, в углу, большая кровать, на ней спит, кажется, женщина, около нее молодая, высокая, толстая женщина раздевается. Но она меня не заметила, и я вошел в избу направо. Там, на скамьях и на полатях, спали наши ямщики; старая, но высокая, толстая женщина, в ситцевом сарафане, босиком, щепала лучину.
— Бог на помочь! — сказал я этой женщине.
Она с трудом выпрямилась, кашлянула и совсем охриплым голосом спросила:
— Ты с ямщиками?
— С ямщиками. Можно лечь?
— Ложись.
Мне хотелось спать, и я, не разбирая места, свернулся на полу между лавкой и дверьми и тотчас заснул; но спал немного.
— Ишь, стерва, будь ты проклятая! до коих пор шаталась… Вставай! — говорила то настоящим, то охриплым голосом старая толстая женщина.
На это ей никто не отвечал.
— Ах, как учну я те щепать, прокляненную!
— Мамонька… Я сичас.
В избу ввалилась старая толстая женщина, тяжело ступая босыми ногами; она двигалась медленно, и если ей нужно было повернуть в которую-нибудь сторону голову, она поворачивалась всем туловищем; если ей нужно было наклониться, то она кряхтела, лицо становилось красным. Печка уже истопилась, и хозяйка садила в нее хлебы. Вошла, не торопясь, ее дочь, та самая, которая недавно раздевалась; она куксила глаза и ежеминутно зевала, как бы стараясь убедить свою мать, что она не выспалась. Но матери было некогда, она торопилась, а в это хлопотливое время она, вероятно, была очень раздражительна и забывала все услуги своей дочери, так что ее и спрашивать нужно осторожно.
— Ишь, гостьюшка, выплыла… До коей поры пролюбезничала?
— Да я… Ишь, какая! — проговорила дочь обидчивым голосом.
— Што, по твоей милости, голодать коровам-то да курицам?
— Да я сичас! — крикнула дочь и пошла к двери.
— Ах ты, проклятая!.. Куда ты пошла? Умойся сперва, стерва!
Во все это время мать мыла чашки и ложки. Дочь стала умываться.
Мать и дочь молчали. Потом дочь сходила в комнату и босиком ушла во двор. Я встал, подошел к окну, набил трубку нежинскими корешками и не знал: что делать с трубкой? где курить? — однако отворил окно, закурил и старался пускать дым на улицу. Дом этот на тракту, налево тракт, или улица, заворачивает; дома старенькие, построены друг к другу тесно, и хотя я несколько раз проезжал мимо этих домов, но теперь не мог понять по ним: что это такое — станция, или село, или завод? Однако по одному дому и по некоторым словам хозяйки я узнал, что это завод, но какой?
— Ты, почтенный, не кури здесь: я не люблю. Поди, выдь на улицу.
Я ушел.
Солнышко уже поднялось примерно на вершок выше крыши дома налево. Ветра нет, и не жарко. В нижнем этаже соседнего углового полукаменного дома говор: там мужчины и женщины пьют чай и едят пироги. Из ворот противоположного дома, тоже полукаменного, выехали в телеге четыре женщины и один мужчина; из телеги выходят наружу литовки и грабли. К этим домам, и преимущественно к постоялому, то и дело подбегают десятками, пятками, тройками мальчики и девочки, очень бедно одетые, босые, с набирухами и без набирух, и неистово вопиют: «Милостинку, ради Христа!» Им кидают из окон ломти ржаного хлеба. Подошли и ко мне штук десять ребят, от пяти до семнадцати лет (одной девочке было около семнадцати лет), и завопияли. Я поглядел на них: тело немытое, рубашонки грязные, по ним бегают огромные вши, ноги по колена в грязи и имеют вид чугуна, волосы на головах всклокоченные.
— Бог подаст, — сказал я. Они стали поодаль и начали ругать меня. Подошел ко мне мальчик лет восьми, с белыми волосами, за ним другой, поменьше, и оба, протягивая руки, робко простонали: милостинку, барин…
— У те есть отец-то? — спросил я мальчика.
Он дико смотрел на меня, мальчик поменьше отошел прочь и издали смотрел на нас.
— Тятька-то жив?
— Не…
— А мамка?
— Не…
Я ему дал пятак и спросил, куда он девает деньги, но он убежал.
Нищих, ребят было так много, что они осаждали почти на каждом шагу; я прошелся несколько по улице, увидал церковь и потом круглую, красную крышу вдалеке — и узнал по ним Шайтанский завод.
Ямщики между тем встали, сходили к лошадям и начали умываться; умылся и я, вытер лицо белым платком — зачернил платок. В волосах было так много песку, что гребенка не лезла, пришлось отложить попечение о волосах. Ямщики свои волосы не расчесывали. Хозяйка поставила на стол полутораведерный самовар, чайную посуду, принесла две большие булки. Ямщики перекрестились и сели за стол. В переднем углу сидел тощий, угреватый ямщик. Хозяйка подсела к ним на табуретке.