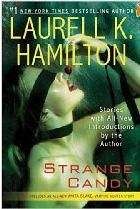У зверьков был свой быт, свои привычки, своя философия, своя честь, свои взгляды на жизнь. Была у них собственная звериная страна, границы которой, как океан, омывал сон. Страна была обширная и не до конца обследованная. Известно было, что на юге живут верблюды, их по пятницам приходит мыть и стричь белая лошадь. На крайнем севере всегда горела елка и стояло вечное Рождество.
Зверьки объяснялись на смешанном языке. Были в нем собственные австралийские слова, переделанные из обыкновенных на австралийский лад. Так, в письмах они обращались друг к другу "ногоуважаемый" и на конверте писали "его высокоподбородию". Они любили танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники, именины. Они так и смотрели на жизнь: Из чего состоит год?-- Из трехсот шестидесяти пяти праздничков.-- А месяц?-- Из тридцати именин.
Они были славными зверьками. Они, как могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженого, когда знали, что нет денег. Даже когда им было очень грустно, они танцевали и праздновали именины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что-нибудь плохое. "Зверьки, зверьки,-- нашептывал им по вечерам из щели страшный фон Клоп,-- жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, вы замерзнете, вы умрете, зверьки,-- вы, которые так любите жизнь". Но они прижимались тесней друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством, отвечали-- "Это нас не кусается".
x x x
Человек бродит по улицам, думает разные вещи, заглядывает в чужие окна. Его воображение работает помимо него. Он не замечает его работы. Он сидит в кафе, пьет пиво и читает газету. Прения в палате депутатов. Автомобили в рассрочку. Он дремлет, ему снится чепуха. Чернило пролилось на скатерть. Рыба проплыла-- чернило исчезло. Надо закрыть дверь, но ключ не лезет в скважину. Общественное мнение Англии. Циклон. Оказывается, рыба и есть ключ, оттого-то он и не подходил. Спящий вдруг просыпается. Ни рыбы, ни общественного мнения.
Сидеть в кафе, слоняться по лицам, заглядывать в чужие окна все-таки лучшее утешение, чем Анна Каренина или какая-нибудь мадам Бовари. Следить за влюбленными, которые сидят, прижавшись, за невыпитым кофе, потом плутают по улицам, наконец, оглянувшись, входят в дешевую гостиницу, то же, если не большее, чем самые совершенные стихи о любви. "Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой". Вот она, маленькая ножка, стучит по асфальту монмартрского тротуара, вот мелькнул и скрылся золотой локон за стеклянной дверью отеля. Это сегодняшний день, это трепещущее улетающее мгновение моей неповторимой жизни-- конечно, разве можно сравнивать,-- это выше всех вместе взятых стихов. Топот ножки замолк, локон мелькнул и исчез за дверью. Постоим, подождем. Вот окно зажглось в первом этаже. Вот задернулась портьера.
Лакей получил франк на чай и оставил их одних. Лампочка под потолком, пестрые обои, белое эмалевое биде. Может быть, это в первый раз. Может быть, это блаженнейшая в мире любовь. Может быть, Наполеон воевал и Титаник тонул только для того, чтобы сегодня вечером эти двое рядом легли на кровать. Поверх одеяла, поверх каменно-застланной простыни торопливое, неловкое, бессмертное объятие. Колени в сползающих чулках широко разворочены; волосы растрепаны на подушке, лицо прелестно искажено. О, подольше, подольше. Скорей, скорей.
-- Погоди. Знаешь ли ты, что это? Это наша неповторимая жизнь. Когда-нибудь, через сто лет, о нас напишут поэму, но там будут только звонкие рифмы и ложь. Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновение. Никто не раздвигал твоих коленей, и вот я на ярком свету, на белой выутюженной простыне, бесцеремонно раздвигаю их. Тебе стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входит полным весом в мое беспамятное торжество.
Кто они, эти двое? О, не все ли равно. Их сейчас нет. Есть только сияние, трепещущее вовне, пока это длится. Только напряжение, вращение, сгорание, блаженное перерождение сокровенного смысла жизни. Ледяная вершина мировой прелести, освещенная беглым огнем. Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы... ы... ы... Единственная нота, доступная человеку, ее жуткий звон. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Последние судороги. Горячее семя, стекающее к сокращающейся, вибрирующей матке. Желанье описало полный круг по спирали, закинутой глубоко в вечность, и вернулось назад в пустоту. "Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью",-- записывает после брачной ночи молодой Толстой.
x x x
В кафе сидит человек. Обыкновенный человечек, ноль. Один из тех, о которых пишут после катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директор треста, не изобретатель, не Линдберг, не Чаплин, не Монтерлан. Он прочел газету и знает теперь, как настроено общественное мнение Англии. Он допил кофе и зовет гарсона, чтобы расплатиться. Он рассеянно думает, что ему дальше делать-- пойти в кинематограф или отложить деньги на лотерейный билет. Он спокоен, он мирно настроен, он спит, ему снится чепуха. И вдруг, внезапно он видит перед собой черную дыру своего одиночества. Сердце перестает биться, легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение.
Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацепить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лед. Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру.
Человек, человечек, ноль растерянно смотрит перед собой. Он видит черную пустоту, и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни. Тысяча безымянных, безответных вопросов, на мгновение освещаемых беглым огнем и сейчас же поглощаемых тьмой.
Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит... Бог поставил человеку-- человеком-- вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что. Вечный синоним неудачи-ответ. Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира, и что за ответы были на них даны...
Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в непроницаемую броню одиночества. Два миллиарда обитателей земного шара-- два миллиарда исключений из правила. Но в то же время и правило. Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять. Брат мой Гете, брат мой консьерж, оба вы не знаете, что творите и что творит с вами жизнь.
Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они ее расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самум мутными струйками закрутился в пустыне. Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах-- Париж, улица, время, твой образ, моя любовь.
Человек, человечек, ноль сидит с остановившимся взглядом. Подходит лакей, сдает сдачу. Человек переводит дыхание, встает. Он закуривает папиросу, он идет по улице. Его сердце еще не разорвалось -- вот оно по-прежнему бьется в груди. Мировое уродство не рухнуло-- вот оно, как екала, по-прежнему подпирает мир.
Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Желание говорить, стремленье петь-- о своей любви, о своей душе. Изойти, захлебнуться простыми, убедительными словами, словами, которых нет...
Как началась наша любовь? Банально, банально. как все прекрасное, началась банально. Вероятно, гармония и есть банальность. Вероятно, на это бессмысленно роптать. Вероятно, для всех был и есть один-единственный путь-как акробат по канату, пройти над жизнью по мучительному ощущению жизни. Неуловимому ощущению, которое возникает в последней физической близости, последней недоступности, в нежности, разрывающей душу, в потере всего этого навсегда, навсегда. Рассвет за окном. Желанье описало полный путь и ушло в землю. Ребенок зачат. Зачем нужен ребенок? Бессмертия нет. Не может не быть бессмертья. Зачем мне нужно бессмертье, если я так одинок?
Рассвет за окном. На смятой простыне в моих руках вся невинная прелесть мира и недоуменный вопрос, что делали с ней. Она божественна, она бесчеловечна. Что же делать человеку с ее бесчеловечным сиянием? Человек-это морщины, мешки под глазами, известь в душе и крови, человек-- это прежде всего сомнение в своем божественном праве делать зло "Человек начинается с горя", как сказал какой-то поэт Кто же спорит. Человек начинается с горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадает в Каспийское море Дыр бу щыл убещур.
x x x
Этот день, этот час, эта ускользающая минута. Тысячи таких же дней и минут, одинаковых, неповторимых. Этот перистый парижский закат, тускнеющий у меня на глазах. Тысячи таких же закатов, над современностью, над будущим, над погибшими веками. Тысячи глаз, глядящих с той же надеждой в ту же сияющую пустоту. Вечный вздох мировой прелести: я отцветаю, я гасну, меня больше нет. "На холмы Грузии легла ночная мгла." И вот она так же ложится на холм Монмартра. На крыши, на перекресток, на вывеску кафе, на полукруг писсуара, где с тревожным шумом, совсем как в Арагве, шумит вода.