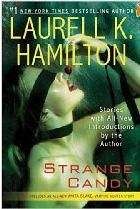x x x
Этот день, этот час, эта ускользающая минута. Тысячи таких же дней и минут, одинаковых, неповторимых. Этот перистый парижский закат, тускнеющий у меня на глазах. Тысячи таких же закатов, над современностью, над будущим, над погибшими веками. Тысячи глаз, глядящих с той же надеждой в ту же сияющую пустоту. Вечный вздох мировой прелести: я отцветаю, я гасну, меня больше нет. "На холмы Грузии легла ночная мгла." И вот она так же ложится на холм Монмартра. На крыши, на перекресток, на вывеску кафе, на полукруг писсуара, где с тревожным шумом, совсем как в Арагве, шумит вода.
Напротив писсуара скамейка. На скамейке старик в лохмотьях. Он курит подобранный на панели окурок. У него безразличный дремлющий вид. Но это притворство. Насторожившись, он следит за входящими в то отделение писсуара, где на клочке газеты лежит кусок хлеба, набухший от мочи. Вот рабочий с толстой шеей на ходу расстегивает штаны. Широко расставив ноги, он мочится над булкой. Блаженная судорога в душе вшивого старикашки. Сейчас, оглянувшись, торопливо подвернув промокшую газету, на которой еще можно прочесть обрывки вчерашних новостей, он унесет эту булку домой. Сейчас, сейчас,-- чавкая, запивая красным вином, представляя до последних мелочей рабочего с толстой шеей, мальчишку в желтых башмаках, всех, всех пропитавших своей терпкой, теплой мочой эти полкило gros pain. Сейчас, сейчас. Мука, похожая на восхищение, блаженная судорога. Уходя, он что-то бормочет на ходу. Может быть, его глухонемая душа силится промычать на свой лад-- "На холмы Грузии..."
Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтем в снег и в его лицо хлещет красный закат. Закат в мертвецкой, в операционной над океаном, над Альпами, в дощатом лагерном нужнике: все оттенки желтого и коричневого, запятые на стенках, сложная вонь, перебиваемая свежестью, сквозящей в щели. Новобранец, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспешно онанирует другой Задохнувшись, заглушенно вскрикнув, он кончает С полстакана, заливая пальцы липким теплом, спугнув мух, шлепается в коричневое месиво. Лицо парня сереет. Он вяло подтягивает штаны. Так и не удалось вообразить оставленную в деревне невесту. Конечно, его убьют на войне, может быть, еще в этом году.
Закат над Тамплем. Закат над Лубянкой. Закат в день объявления войны и в день перемирия: все танцевали, все были пьяны, никто не слышал, как голос сказал-- "Горе победителям". Закат в комнате, где когда-то мы жили с тобой: синее платье лежало на этом стуле.
x x x
Петербургский ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице, перед чужим окном, и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую пульсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась без следа в перистом вечернем небе? Или он только предчувствует встречу с ней? Не все ли равно.
Закат давно погас. Служба давно кончилась. На чердаке у Обухова моста булькает теплое пиво, клубится табачный дым. "Он был титулярный советник. она-- генеральская дочь",-- вкрадчиво, нежно, бархатно вздыхает гитара. Расцветает чердачный канцелярский миф, миф-- самозащита и противовес ледяному мифу пушкинской ясности. Миф-- серная кислота тайная мечта,-который эту ясность обезобразит разъест, растлит.
Акакий Акакиевич получает жалование, переписывает бумаги, копит деньги на шинель, обедает и пьет чай. Но все это только поверхность, сон, чепуха, бесконечно далекая от сути вещей. Точка, душа, неподвижна и так мала, что ее не разглядеть и в самый сильный микроскоп. Но внутри, под непроницаемым ядром одиночества, бесконечная нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота. Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост. Но если пошевелить его, зацепить, расщепить...
Генеральская дочка, Психея, ангельчик вбегает, вся в кисее, в кабинет его превосходительства, и чернильная крыса, человечек, ноль, раболепная тень в сюртуке с чужого плеча отвешивает ей низкий поклон. Только и всего. Психея пролепечет: bon jour, papa, поцелует румяную генеральскую щеку, блеснет улыбкой, прошелестит кисеей и упорхнет. И никто не знает, никто не догадывается, какая это видимость, сон, суета...
С головой, отуманенной скукой жизни и пивом, под вкрадчивый рокот гитары, Акакий Акакиевич оставляет суету и поверхность и опускается в суть вещей. Тайные мечты обволакивают образ Психеи, и мало-помалу его жадная мысль превращается в ее желанную плоть. Преграды, такие непреодолимые днем,-- падают сами собой. Он неслышно скользит по пустому спящему городу, не замеченный никем входит в темные покои его превосходительства, бесшумной тенью, между статуй и зеркал, по паркетам и коврам пробирается к самой спальне ангельчика. Открывает дверь, останавливается на пороге, видит "рай, какого и на небесах нет". Видит ее разбросанное на кресле бельецо, видит ее сонное личико на подушке, видит ту скамеечку, на которую она ставит по утрам ножку, надевая на эту ножку белый, как снег, чулочек. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот... Ничего, ничего, молчание.
Под рокот гитары, отуманенный тайными мечтами, настойчивым, воспаленным, направленным долгие часы, долгие годы в одну точку воображением, он материализует Психею, заставляет ее самое прийти на его чердак, лечь на его кровать. И она приходит, ложится, поднимает кисейный подол, раздвигает голые атласистые коленки. Он был титулярный советник она генеральская дочь. Он при встрече раболепно кланялся ей, не смея поднять глаз от своих залатанных сапог. И вот, широко расставив коленки, улыбаясь невинной улыбкой ангельчика, она покорно ждет, чтобы он всласть, вдребезги, вдребезги натешился ей.
x x x
"Красуйся, град Петров, и стой",-- задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин, и в донжуанском списке кого только нет. "Ничего, ничего, молчание",-- бормочет Гоголь, закатив глаза в пустоту, онанируя под холодной простыней.
"Красуйся и стой." На поверхности жизни, в ясных, хотя бы и закатных лучах, как будто и так. Вот Париж же стоит до сих пор. Этим теплым летним вечером он прекрасен. Каштаны, автомобили, мидинетки в летних платьицах. Волшебство вспыхнувших фонарей вокруг безобразнейших в мире статуй. Россыпь цветов на лотках. Сакре Кер на темнеющем небе. Несмотря на предчувствие, душа тянется к жизни. Вот она в легких перистых облаках.-- "Я увядаю, я гасну, меня больше нет." И совсем как в Арагве, торжественно, грустно, глухо в писсуаре шумит вода.
Но закат быстро темнеет, и ночная мгла еще быстрей овладевает человеком. Она уводит его за собой в такую глубину, что, вернувшись на поверхность, он уже не узнает ее. Но он и не вернется. В черном счастьи, куда все глубже-- штопором, штопором-- завинчивается душа, зачем ей эта давно поколебленная неколебимость и ее давно обезображенная краса? Петра выпотрошат из гроба и с окурком в зубах прислонят к стенке Петропавловского собора под хохот красноармейцев, и ничего, не провалится Петропавловский собор. Дантес убьет Пушкина, а Иван Сергеевич Тургенев вежливенько пожмет руку Дантесу, и ничего, не отсохнет его рука. И какое нам дело до всего этого, здесь, на самом дне наших душ. Наши одинаковые, разные, глухонемые души-- почуяли общую цель и -- штопором, штопором-- сквозь видимость и поверхность завинчиваются к ней. Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу.
Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги. Немного припухшие от горячей воды, с коротко подстриженными ноготками, наивные; непривычные к тому, чтобы кто-нибудь на них смотрел, целовал, прижимался к ним горячим лбом)-- ноги уличной девчонки обернутся в ножки Психеи.
x x x
Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Белоснежный чулочек снят с ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колено, щиколотка, нежная детская пятка-- пролетали годы. Вечность прошла, пока показались пальчики... И вот-- исполнилось все. Больше нечего ждать, не о чем мечтать, не для чего жить. Ничего больше нет. Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель-- Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот, вот..
.
Простыня холодная, как лед. Ночь мутно просвечивает в окно. Острый птичий профиль запрокинут в подушках. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Все достигнуто, но душа еще не насытилась до конца и дрожит, что не успеет насытиться. Пока еще есть время, пока длится ночь, пока не пропел петух и атом, дрогнув, не разорвался на мириады частиц-- что еще можно сделать? Как еще глубже проникнуть в свое торжество, в суть вещей, чем еще ее ковырнуть, зацепить, расщепить? Погоди, Психея, постой, голубка. Ты думаешь, это все? Высшая точка, конец, предел? Нет, не обманешь.