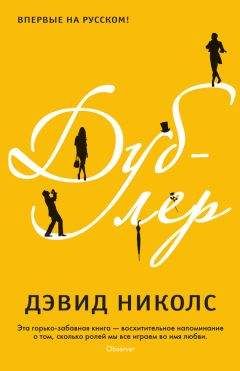потом…
– Как сейчас помню твою презентацию о вулканах. Штриховка была нанесена бесподобно.
– Это уже в прошлом.
Я пожал плечами и вдруг с ужасом понял, что у меня внутри щелкнул какой-то переключатель и сейчас из глаз потекут слезы. Даже мелькнула мысль: а не забраться ли на несколько перекладин выше?
– Но ты, вероятно, найдешь работу, связанную как раз с этим.
– С вулканами?
– С компьютерной графикой, с дизайном. Если после объявления результатов захочешь со мной это обсудить…
Или не забираться выше, а взять да и спихнуть его с перекладины. Благо падать невысоко.
– Ладно, я разберусь.
– Хорошо, Чаз, хорошо, но позволь открыть тебе одну тайну. – Он развернулся ко мне, и я учуял пивной дух. – Заключается она в следующем. Настоящее ни на что не влияет. То, что происходит сейчас, ни на что не влияет. Ну то есть влияет, но не так сильно, как тебе видится, а ты еще молод, так молод. Захочешь – поедешь учиться, захочешь – вернешься, когда созреешь, но у тебя. Полно. Времени. Эх… – Он мечтательно прижался щекой к деревянной стойке. – Если бы я в один прекрасный день проснулся шестнадцатилетним… эх…
Я уже приготовился спрыгнуть, но тут мисс Бутчер как по заказу нащупала стробоскоп и выдала длинную-длинную очередь вспышек; в толпе раздался вопль, началось внезапное кишение: в мерцающем свете, под звуки «MMMBop» ребята в панике окружили Дебби Уорик, которая, закашлявшись, извергала в этом дьявольски быстром слайд-шоу белопенную рвоту прямо на обувь и голые ноги тех, кто оказался рядом, и зажимала рот ладонью, отчего радиус дуги только увеличивался, как при поливе из зажатого пальцем шланга, и одинокая Дебби под общий гогот и визг сложилась пополам в кольце выпускников. Только тогда мисс Бутчер выключила стробоскоп и на цыпочках пробралась сквозь оцепление к Дебби Уорик, чтобы самыми кончиками пальцев вытянутой руки помассировать ей спину.
– Студия пятьдесят четыре, – сказал мистер Хепбёрн, слезая со шведской стенки. – Перебор стробирующих импульсов, понятно?
Музыка смолкла, ребята оттирали голые ноги грубыми бумажными полотенцами, а уборщик Парки побежал за опилками и дезинфицирующим средством, которые всегда были наготове в дни подобных мероприятий.
– Осталось двадцать минут, леди и джентльмены, объявил мистер Хепбёрн, вернувшись за пульт. – Двадцать минут, а это значит, что пора немного сбавить обороты…
Медленные песни давали ученикам санкционированную возможность лежать друг на друге в положении стоя. До этого первые аккорды «2 Become 1» [4] расчистили танцпол, но теперь по периметру закипели панические переговоры, которые мы вели по пояс в тумане, поскольку техники по собственной инициативе высыпали нам под ноги небольшое количество сухого льда. Первыми из дымки вырвались Салли Тейлор и Тим Моррис, за ними – Шерон Финдли и Патрик Роджерс, школьные секс-первопроходцы, которые засовывали руки глубоко под пояса брюк и юбок друг друга, как будто хотели вытянуть оттуда счастливый лотерейный билет, а потом Лайза Боден по прозвищу Боди и Марк Соломон, Стивен Шенкс (он же Шенкси) и Элисон Куинн (она же Королева), изящно перепрыгнули через опилки.
Но они в наших глазах были семейными парочками с большим стажем. Толпа требовала новых зрелищ. Из дальнего угла донеслись улюлюканье и ободряющие вопли: там коротышка Колин Смарт взял за руку Патрицию Гибсон и та, отчасти подталкиваемая сзади, отчасти взятая на буксир, выплывала на свет, свободной рукой загораживая лицо, как обвиняемая перед входом в здание суда. Между тем парни и девчонки стали на свой страх и риск совершать перебежки через весь зал: одних принимали с распростертыми объятиями, другим давали отлуп, и эти, натужно улыбаясь, понуро разворачивались под жидкие хлопки.
– Видеть этого не могу, а ты?
Ко мне на шведскую стенку забралась Хелен Бивис, девочка из гуманитарного класса, чемпионка по хоккею на траве, временами именуемая Клюшкой – естественно, за глаза.
– Ты посмотри, – продолжала она, – Лайза готова всю голову засунуть в рот Марку Соломону.
– Могу поспорить: он еще жвачку не выплюнул…
– Гоняет ее туда-сюда. Маленький зубной бадминтон. Чпок-чпок-чпок.
Мы с ней – с Хелен – и раньше совершали застенчивые шаги к сближению, которые, впрочем, ни к чему не привели. В классах гуманитарно-художественного направления она входила в число продвинутых учеников, которые создавали большие абстрактные полотна с названиями вроде «Разделение» или неустанно совали какие-то глиняные поделки в печь для обжига керамики. Если в изобразительном искусстве главное – самовыражение и эмоции, то я был всего лишь «добротным рисовальщиком»: мне удавались детально проработанные, густо заштрихованные эскизы зомби, космических пиратов и черепов, непременно с одним зрячим глазом; сюжеты черпались из компьютерных игр и комиксов, из ужастиков и научно-фантастических фильмов, а причудливые, ожесточенные образы лишь по чистой случайности не привлекли внимания школьного психолога.
«Одно могу сказать, Льюис, – когда-то произнесла нараспев Хелен, держа на расстоянии вытянутой руки портрет какого-то межгалактического наемника, – ты классно рисуешь мужские торсы. И плащи. А представь, каких ты добьешься успехов, если переключишься на что-нибудь реалистическое».
Я тогда не ответил. Хелен Бивис была для меня слишком умной, причем никогда себя не выпячивала и не гонялась за книжными купонами. Вдобавок она отличалась остроумием и свои лучшие шутки произносила вполголоса, для собственного удовольствия. Ее фразы были многословнее, чем требовалось, но в каждом втором слове сквозила ирония, отчего я не мог взять в толк, как их понимать: в прямом смысле или в обратном. Слова, даже однозначные, были для меня камнем преткновения, и если наши с ней приятельские отношения чем-то подпитывались, то лишь тем, что я вечно не догонял.
– Знаешь, чего не хватает в нашем спортзале? Пепельниц. Которые задвигаются в торцы параллельных брусьев. Слушай, а нам уже можно курить?
– Можно будет только… через двадцать минут.
Как и все наши лучшие спортсмены, Хелен Бивис была заядлой курильщицей, она затягивалась, не успев выйти за территорию школы, и, когда смеялась, подрагивала сигаретой «Мальборо» с ментолом, как морячок Попай – трубкой, а однажды я увидел, как она заткнула одну ноздрю пальцем, а из другой выпустила соплю, которая перелетела через живую изгородь и приземлилась метрах в четырех. Такой жуткой стрижки, как у Хелен, я не видел больше ни у кого: на темени – ирокез, сзади – длинная, жидкая гривка, а к щекам липнут остроконечные бакенбарды, будто пририсованные к портрету шариковой ручкой. Таинственная формула, известная только старшеклассникам, – жидкие волосы, плюс художественные наклонности, плюс хоккей, плюс небритые ноги – однозначно указывала на лесбиянку; для парней это было сильнодействующее слово, способное как разжечь, так и погасить любую искру интереса к девчонке. Лесбиянки бывали двух – только двух – типов, и