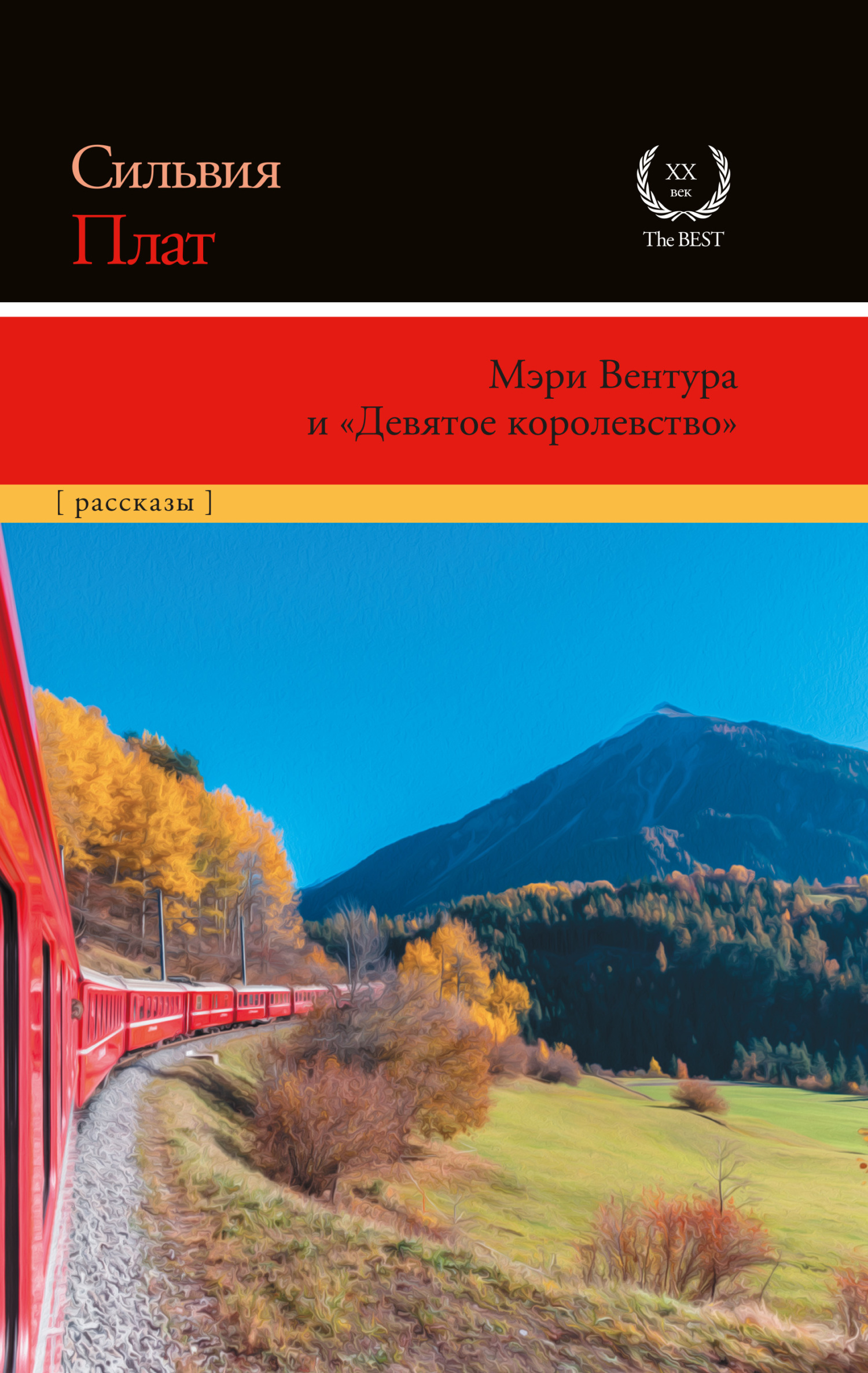этот момент откуда-то издалека донесся мелодичный звук флейты, причудливый и нежный, и Миллисент подумала, что это, должно быть, песни вересковых птиц, которые легко и плавно описывают круги в воздухе на фоне синеющего горизонта, и их алые крылья мелькают под ярким солнцем.
В душе Миллисент зазвучала собственная мелодия, мощная и яркая – ликующий ответ быстрокрылым птицам, весело распевающим где-то в дальних краях. Она знала, что только теперь начинается ее подлинное посвящение.
Воскресенье у Минтонов
«Если бы только Генри не был таким привередливым, – вздохнула Элизабет, поправив карту на стене в кабинете брата. – Чересчур привередливым». Она машинально оперлась на письменный стол из красного дерева – ее морщинистые пальцы с голубыми прожилками казались очень белыми на темном полированном дереве.
Запоздалое утреннее солнце бледными квадратами падало на пол, высвечивая летящие и оседавшие в воздухе пылинки. В окно Элизабет видела сверкающую зеленую поверхность сентябрьского океана, который простирался далеко за размытую линию горизонта.
В теплый день, когда открывали окна, она слышала, как о берег разбиваются волны. Вот одна с грохотом обрушивалась и откатывалась, но тут же поспевала другая, и еще одна, и еще. Иногда вечерами, когда Элизабет, полусонная, все тянула время, пока не проваливалась в сон, она слышала шум волн, потом в ветвях завязывался ветер, и тогда было трудно отличить один шум от другого, и казалось, что в листьях плещется вода, а упавшие ветки с шумом уносит в море.
– Элизабет! – Голос Генри отозвался в глухом коридоре громким зловещим эхом.
– Да, Генри? – кротко откликнулась Элизабет на голос старшего брата.
Теперь, когда они снова оказались вдвоем в этом старом доме и Элизабет снова ловила каждое его слово, она временами казалась себе покорной маленькой девочкой, какой была много лет назад.
– Ты закончила с уборкой кабинета? – Генри шел по коридору.
Эту медленную тяжелую поступь ни с чем нельзя было спутать. Элизабет поднесла тонкую руку к горлу, коснувшись, как талисмана, аметистовой броши матери, которую она всегда прикалывала к воротничку платья, и оглядела полутемную комнату. Да, нужно еще смахнуть пыль с абажуров. Генри терпеть не может пыль.
Элизабет всматривалась в стоящего в дверях брата. В тусклом свете она не очень четко видела его лицо, издали казавшееся круглым и мрачным; темные очертания его фигуры растворялись во мраке коридора. Она смотрела, сощурившись, на этот расплывчатый силуэт, невольно радуясь тому, что видит брата без очков. Он, всегда такой четкий, такой ясный, сейчас почти полностью был в тени.
– Опять замечталась, Элизабет? – печально пожурил сестру Генри, увидев характерное отсутствующее выражение в ее глазах. Такое часто случалось и раньше. Когда Генри выходил из дома, он видел, что сестра читает книгу в беседке или строит замок из песка у дамбы, и тогда напоминал ей, что матери нужна помощь на кухне или что пора чистить серебро.
– Нет, Генри. – Хрупкая фигурка гордо выпрямилась. – Нет, Генри, вовсе нет. Я как раз собираюсь запечь цыпленка. – Элизабет быстро проскользнула мимо брата, выказав негодование лишь резким шелестом оборок.
Генри смотрел ей вослед. Каблучки сестры легко постукивали в направлении кухни, лавандовые юбки слегка покачивались и колыхались вокруг голеней, и в этом был настораживающий намек на дерзость. Элизабет никогда не была практичной девушкой, но, по крайней мере, была послушной. Однако в последнее время сестра все чаще демонстрировала эту… эту вызывающую непокорность. Во всяком случае, с тех пор, как после его выхода в отставку они стали жить вместе. Генри недовольно покачал головой.
А тем временем Элизабет гремела фарфоровыми тарелками и столовым серебром в буфетной, отбирая посуду для воскресного обеда, укладывала виноград и яблоки в хрустальную вазу, украшавшую центр стола, наливала ледяную воду в высокие светло-зеленые бокалы. В полумраке из-за сдвинутых портьер в аскетически обставленной столовой Элизабет скользила легкой фиолетовой тенью, как раньше ее мать… Когда это было? Сколько лет прошло? Она потеряла счет времени. Но Генри мог бы сказать. Генри помнит день и час смерти матери. Насчет этого Генри скрупулезно точен.
Сидя за обедом во главе стола, Генри склонил голову и своим звучным голосом прочел молитву. Произнесенные им слова звучали внушительно и ритмично, как во время библейского песнопения. Но как только Генри произнес: «Аминь», – Элизабет почувствовала запах горелого и вспомнила про картофель.
– Генри, картофель! – Элизабет сорвалась со стула и поспешила на кухню, где в духовке медленно покрывались углем овощи. Выключив огонь, она вытащила картофель на кухонный стол, уронив на пол одну картофелину, обжегшую ее нежные, чувствительные пальцы.
– Обгорела только кожура, Генри. А так ничего, – выкрикнула она.
Послышалось раздраженное фырканье: Генри обожал маслянистую картофельную кожуру.
– Смотрю, ты за эти годы совсем не изменилась, – с упреком сказал Генри, когда сестра вернулась в столовую с блюдом подгоревшей картошки.
Элизабет села на место, стараясь пропускать упреки брата мимо ушей. Она знала, что сейчас последует долгая речь, произнесенная укоризненным тоном. Голос Генри источал ханжество, оно стекало с его губ как растопленное масло.
– Иногда я думаю, Элизабет, – продолжал Генри, с трудом отрезая кусочек от особенно жесткой части цыпленка, – как тебе с твоей рассеянностью удавалось заботиться о себе в течение всех этих лет, пока ты жила одна и работала в городской библиотеке.
Элизабет молча склонила голову над тарелкой. Во время наставлений Генри можно было думать о чем-то своем. В детстве она затыкала уши пальцами, чтобы не слышать командного голоса, когда он призывал ее к порядку, радостно и усердно исполняя указания матери. Теперь же она научилась с легкостью уходить от порицаний брата в собственный мир, мечтая или размышляя над тем, что приходило ей на ум. Сейчас ей нравилось смотреть, как красиво горизонт сливается с голубым небом, так что непонятно, то ли вода разжижается, превращаясь в воздух, то ли воздух уплотняется, преображаясь в воду.
Они ели в молчании. Время от времени Элизабет поднималась, уносила освободившуюся посуду, подливала воду в бокал Генри, приносила из кухни десертные бокалы с ежевикой и сливками. Когда она двигалась, пышные лавандовые юбки шуршали, задевая плотную полированную мебель, и тогда ей казалось, что она становится кем-то другим, возможно матерью. Кем-то, кто легко и ловко управляется с домашним хозяйством. Как странно, что после лет, проведенных в полной независимости, она вновь живет вместе с Генри, взвалив на себя домашние обязанности.
Элизабет взглянула на брата, который, склонившись над десертом, отправлял ягоды со сливками ложку за ложкой в свой похожий на пещеру рот. Брат отлично сочетается с тусклой зашторенной столовой, думала она, и ей доставляло удовольствие созерцать его в этом искусственном полумраке, в то время как на улице ярко светило роскошное солнце.
Элизабет занялась мытьем посуды, а Генри тем временем уединился в кабинете за картами. Ничто на