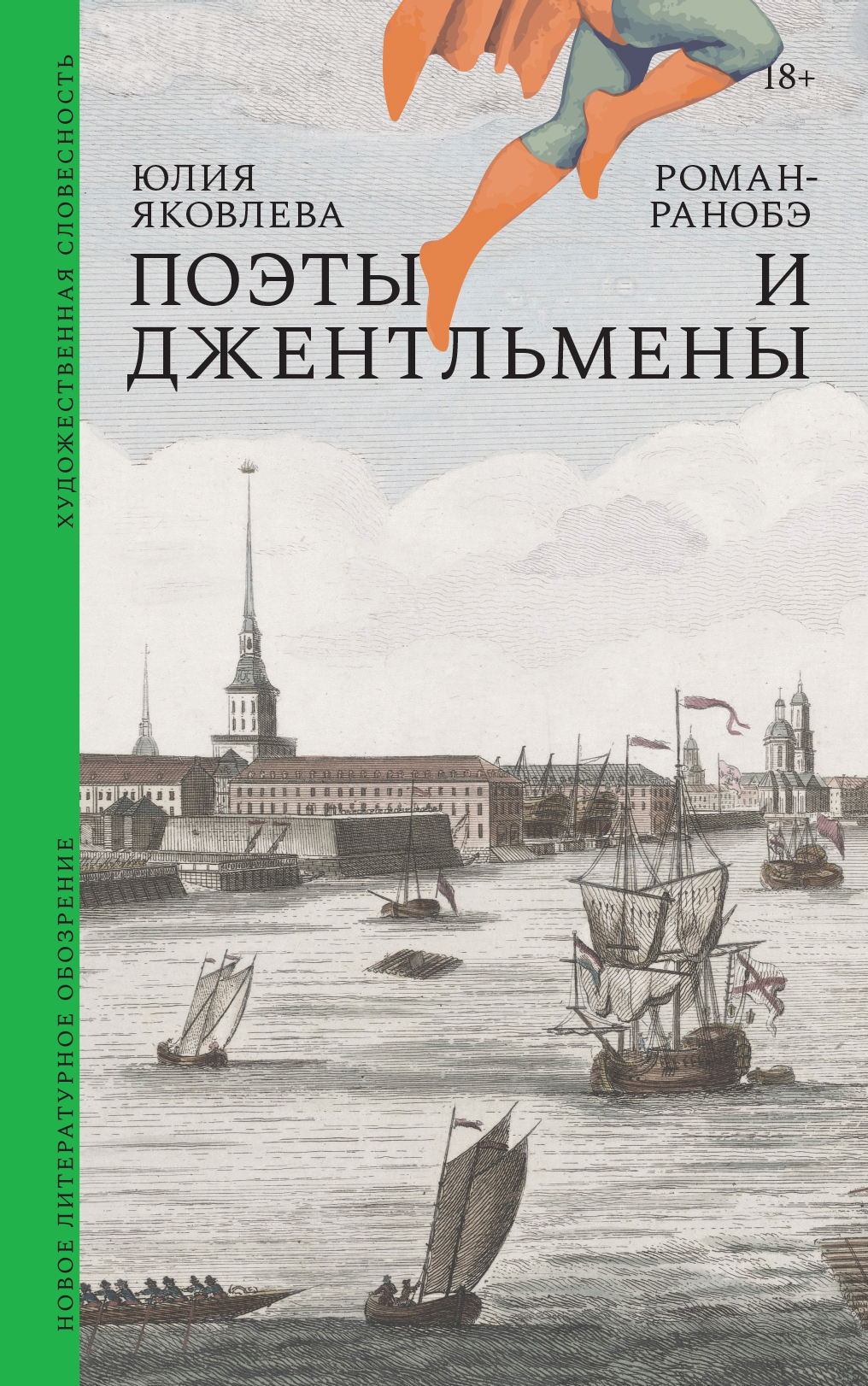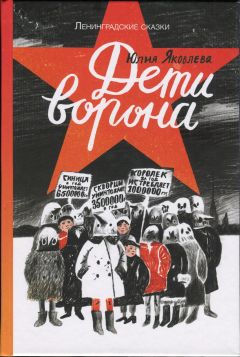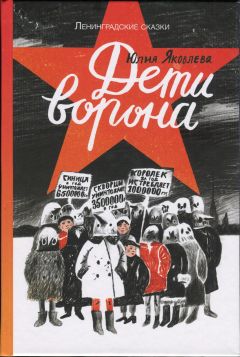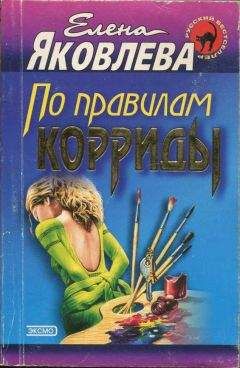на лбу удостоверяли, что их обладателю уже за пятьдесят. Столько и останется.
– Что ж не притронулись даже? Бережете фигуры, господа? – Меншиков отмахнулся. – Пустяки. Могу порекомендовать корсетного мастера. – Он сложил пальцы щепоткой и поцеловал. – Талию сделает – рюмочку. Тоньше, чем у балерины Тальони.
В ответ ни движения. Только Нахимов часто заморгал. Тогда князь радушно наколол вилкой паштет. Наколол тартинку. Сунул в рот. Но примеру не последовали. Тотлебен наклонил лоб, напомнил:
– Вернусь к тому месту, на котором вы изволили прерваться на паштет и шампанское.
Меншиков со вздохом закатил глаза. «Немчура и педант». Тряхнул пальцами:
– Если вам так нравится.
Судя по лицу Нахимова, вице-адмирал уже затолкал мысленного князя Меншикова в мысленный гальюн целиком. Тотлебен опять наклонил лоб:
– Мне – все это – не нравится. Если вам угодно интересоваться моим мнением. Весьма не нравится. Будет штурм. И в самое ближайшее время. Если фельдмаршал Реглан и контр-адмирал Лайонс не идиоты.
Меншиков начал растягивать новую гримасу.
– Они не идиоты, – вставил Корнилов.
Гримаса опала. Тотлебен поспешил продолжить:
– Город оголен. Укрепления северной стороны расположены так нелепо, что окружающие возвышенности господствуют над ними. Раз. Из орудий там – всего двести малых пушек. Два. Стены по сути нет.
– Как нет? Стена есть. Я видел.
– Три. На Малаховом кургане – центре обороны – пушек всего пять. И башня эта не защищена. Там даже не были начаты земляные работы. Были разворованы…
– Вы только что говорили, что двести – мало, – быстро и весело перебил Меншиков.
– Что? – сбился Тотлебен.
– А оказалось, двести не так уж мало. Где-то вообще пять. Видите, все относительно. Верно? Волосы, например. Двести волос у дамы на голове – это маловато. Двести волос у дамы на ногах – это многовато… Ну, ну, продолжайте.
Глаза Тотлебена побелели.
– Я не понимаю ваш юмор.
– Вы не понимаете юмор, – задорно поправил главнокомандующий. – Видели б вы, как хохотал этой шутке государь!.. Что еще?
Щеки Нахимова стали наливаться кровью. Корнилов поспешил заговорить сам:
– Что прикажете делать флоту? Господин… гов… главнокомандующий.
«Господи… Я чуть не сказал говно-командующий, – испугался он. – Что со мной?» Но на лице, замкнуто-холодном, не проступило ничего.
Меншиков брыкнул ногами:
– Пф! Положите флот себе в карман!
Потянулся к столу. Взял нож. Принялся намазывать на хлеб мягкий лимбургский сыр.
– Это тоже юмор? – сухо уточнил Корнилов.
Но князь уже впился зубами в бутерброд. Замолотил челюстями. Жуя, заговорил. Бутерброд тыкал то в одного, то в другого, то в третьего:
– Господа. Вы все слишком затейничаете для такого простого дела. Если вы получили образование, это не значит, что вам теперь надо изо всех сил его везде совать и всем под нос им тыкать.
Сам князь Меншиков университетов не кончал.
– Армия вам – не наука! – воздел бокал он. – Именно поэтому государь прислал меня к вам сюда – навести простоту и ясность.
– Так что приказываете делать флоту? – повторил Корнилов.
– Фу, какой вы скучный.
– Я жду вашего приказа.
– Эдак невозможно, мои милые. Я приехал, поднял ваш дух. Знали бы вы, как тщательно я выбирал для вас шампанское. Сколько сыров перепробовал, чтобы найти этот… Вы меня не цените. Не поймете.
Он с неожиданной для подагрика легкостью вскочил.
– Что ж. Не буду вам докучать своей компанией.
– Куда вы? – изумился Нахимов.
– Я? Не знаю пока. К Бахчисараю. Что вы на меня так смотрите? Не один, конечно. Я же не безумец таскаться в одиночестве. С армией. Буду грозить англичанам с фланга.
– С армией? А…
– О, Бахчисарай? Это переводится как «фонтан слез». Вы не знали? Нет? У покойного Пушкина был об этом премилый стишок: «Ах, ножки, ножки…» Ну как у него обычно.
– Да прекратите вы пихать Пушкина во все дыры! Пушкин то! Пушкин сё! Что делать кораблям?! – заревел Нахимов.
Меншиков вздрогнул, но быстро спохватился. Махнул:
– Да потопите вы их. Нет кораблей – нет вопросов.
– Как?.. – Корнилов стал медленно подниматься.
Нахимов впервые в жизни сделался бледен, как Корнилов.
Меншиков весело удивился:
– Ну как. Дырки просверлите. Пушки, конечно, сперва снимите. Вот вам и пушки, господин Тотлебен! – обрадовался он.
– Пушкин… то есть пушки… – не мог выговорить Корнилов, он был ошеломлен бездарностью и ничтожеством, которому вверили судьбы людей.
Но Меншикову было хоть бы хны, он весело свиристел:
– Зря только переживали! Пушки есть. А матросов – на защиту города. Вот и все. Ребус ваш решен. Просто и хорошо. А? Молодец я? Вам и голову ломать не пришлось. Я все за вас сделал. Ну, адьё, господа!
И, бренча орденами, вышел.
Дверь затворил. Перевел дух. Отошел на цыпочках.
И рванул по лестнице что было сил. Вниз. Через вестибюль.
На бегу князь едва не снес адъютанта. Запутался в аксельбантах на его груди. Завопил. Выпутался. Ринулся – протянув руки – к двери. Вон. Прочь. Ужас гнал его. Ужас. Ужас при мысли о том, что не пить больше шампанского, не ощутить его колючих пузырьков нёбом. Никогда больше не хлюпнуть устрицей. Не раздавить языком винную ягоду. Не припасть ладонью к мягким ляжкам госпожи Гюлен. Ужас смерти.
Князь Меншиков валял дурака. Но дураком он, конечно, не был.
Трое в кабинете всё молчали.
Над лимбургским вонючим сыром, над бокалом, над руинами паштета жужжала муха. Тотлебен, Нахимов и Корнилов следили за ней взглядами. Жужжала, жужжала, села. Побежала по топкой сырной лужице, не проваливаясь.
Корнилов вдруг поднял голову. Муха взлетела с сыра. Очнулись и остальные двое.
Корнилов водил по кабинету странным слепым, как черная дыра, взглядом.
– Что? Владимир Алексеич? – позвал Нахимов.
Корнилов медленно встал, придерживая, чтобы не звякнул, кортик. Движения его были тихими, точными, как у кота за мышью.
– Кто здесь? – с угрозой спросил воздух Корнилов.
– Владимир Алексеевич? – Тотлебену стало не по себе от этой иррациональной пантомимы. «Нам всем главное – не спятить. Будет штурм. Будут тяжелые дни, бессонные ночи. Много. От рассудочности нас троих, от нашего хладнокровия зависят люди. Нам всем главное – не спятить».
Корнилов быстро шагнул к окну. Дернул портьеру.
Стена.
– Говно, – неслышно пробормотал ей Корнилов.
«Почему я подумал – „говно“? Я же никогда так не говорю. Что со мной сегодня такое? Сперва я чуть не сказал „говнокомандующий“ вместо „главнокомандующий“, потом „пушкин“ вместо „пушки“, потом… Неужели мой рассудок сдается? Нельзя, не сейчас, только не сейчас».
От этих мыслей его оторвал голос Тотлебена:
– Господа. Северная сторона наиболее уязвима. Наступление неприятеля здесь будет быстрым и – увы – победоносным.
– Надо это… – Нахимов сдавленно кашлянул, смотрел он в сторону. – Баб быстро вывозить. Детей и баб. В смысле, дам. Женщин. Если в город войдут турки, да и прочие цивилизованные народы…
Опять кашлянул:
– …когда войдут.
Он думал не о себе, понял Тотлебен. Семьи – близкой, как рубашка к телу, – у вице-адмирала никогда не было. Он думал о моряках. О горожанах. О своей большой семье.
– Дорогой Павел Степанович… – Тотлебену вдруг многое захотелось ему сказать. Отставить! Не сейчас. Сморгнул едва не набежавшую влагу. Заставил мозг развернуть карту. Город. Подходы