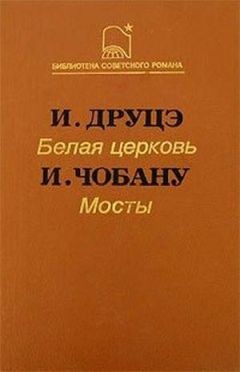В конечном счете и самой Нуце все это стало надоедать - то есть поначалу, забегая к отцу, она чувствовала себя бойцом, сражающимся за истину, она испытывала удовлетворение от своего женского упрямства, но потом это чувство притупилось, истина затерялась в повседневной будничности, и осталась одна привычка бегать по субботам к отцу. А между тем ей все это давалось с большим трудом - забот у нее и так было полно. Мирча работал трактористом, целыми неделями пропадал то на чутурских, то на полях соседних деревень, и ей приходилось быть и хозяйкой и хозяином в своем собственном доме.
Может, потому, что ее девичьи годы прошли давно и она уже плохо помнила старый уклад родительского быта, может, потому, что у нее самой был свой дом, со своим обликом, и его она больше всего любила, а может, потому, что мы всю жизнь как-то незаметно для самих себя что-то постигаем, чему-то учимся, но после долгой дождливой осени, после приторно-теплой, гнилой зимы, ближе к весне Нуца стала все реже и реже забегать к отцу. Забывала. Она искрение удивлялась этому - удивлялась и снова забывала. Потом ей уже стало недоставать времени. То забежит раз в две недели, то раз в месяц. Зайдет усталая, сядет в уголок на лавочке и сидит, словно не может припомнить, за каким же она делом пришла. Онаке тоже с чего-то стал молчаливым. Так они и сидели молча вдвоем, а если Нуца, чтобы разогреть себя воспоминаниями, заводила разговоры о давно минувших временах, Онаке упорно отмалчивался, потому что эти беседы, говорил он, волнуют его и потом много дней он мается, пока снова войдет в свою колею.
А летом с наступлением жатвы Нуца и вовсе забыла дорогу к отцу. Долго ее не было, и только в самом конце августа забежала вечерком. Вошла усталой виноватой походкой, словно шел ей шестнадцатый год и она, запоздав, возвращалась с гулянки. Поздоровалась, села сироткой в уголочек. Распустила завязанный под подбородок белый платок, и смятые узлом кончики платка натруженно повисли на ее плечах. Долго, удивленно оглядывалась - скажи, как чисто прибрано у отца, прибранней, чем в ее собственном доме. А она, дура, пришла помочь прибраться. Старику если и нужно было помочь, то разве в том, чего мужики совсем не умеют - постирать, подштопать, хлеб, что ли, испечь. Сидя так на лавочке и прикидывая, чем бы ей отцу помочь, Нуца вдруг заплакала. Поначалу она плакала тихо, нехотя, словно какое-то тяжелое воспоминание против ее воли прорвалось в поток мыслей и теперь от него не отделаешься, пока не пустишь слезу. Но время шло, она все плакала, ее горе разрасталось какими-то новыми притоками обид, и в конечном счете она разревелась так, что уже не в силах была сама с собой сладить. Слезы текли рекой, какие-то древние рифмованные причитания прорывались наружу. Ее плечи вздрагивали, платок сполз, и она, припав к стенке, вся сжалась в комочек. Она горевала, искала по комнате отца, чтобы позвать на помощь, но слезы застилали ей глаза. Она их вытирала платочком, но они все шли, и она плакала от больших своих обид, плакала оттого, что, когда пришло большое горе, текут слезы и она не может разглядеть сидящего в двух шагах родного отца.
Онаке все это время сидел на низенькой скамеечке с ножницами в одной руке и с зеркальцем в другой - как раз перед приходом Нуцы собирался подстричь усы. Женские слезы на него совершенно не действовали. Он принял горе дочери спокойно, точно долгие годы они препирались и было в порядке вещей, чтобы в конечном счете кто-то заплакал. И то, что первой дала волю слезам женщина, тоже было в порядке вещей. Он сидел спокойно, призадумавшись, точно чужой человек постучался к нему в дом, чтобы выплакать свое большое горе. И он дал этому чужому человеку нареветься вдоволь, и только когда Нуца, облегченно вздохнув, собрала в комок промокший от слез платочек и стыдливо припрятала его куда-то, только тогда Онаке спросил:
- Чего это на тебя нашло?
Нуца, причесываясь, посмотрела на него удивленно, точно не ожидала увидеть его на том месте, где он сидел. Ответила сухо, как и полагается отвечать незнакомцам, которые, случайно оказавшись свидетелями чужого горя, проявляют излишнее любопытство.
- Да ведь у каждого свое. Тут одно на другое не приходится.
И улыбнулась мягко, светло, в том смысле, что, дескать, ничего не поделаешь - на то она и жизнь. Засучила рукава и принялась хлопотать по дому, но теперь Онаке горел любопытством. Он бегал за ней, как ребенок, которому захотелось сладкого, - Нуца выбежит по делам на улицу, идет и он за ней, Нуца возвращается - возвращается и он следом и все выкладывает свои догадки, которые, по его понятию, могли довести дочку до такого горя.
- Послушай, а может, на тебя напраслину возвели? Сейчас ведь любят трепаться. Или, может, в курятник ночью забрались - кто-то на днях рассказывал, что теперь опять по ночам стали лазить в чужие курятники.
Нуцу забавляли эти догадки, но ей было некогда. Она отмахивалась от них, а Онаке не отставал, и мучил себя, и прямо ума не мог приложить, что же с его дочкой могло стрястись. Поздно, перед самым уходом, Нуца, стоя на пороге, долгим взглядом посмотрела на отца. Голова вся седая, а сам он еще на редкость крепкий, здоровый, кряжистый. И это в то время, когда всех степных жителей качает после голода, когда и самым молодым уже свет не мил. То-то и оно. Одни знают, как сделать, чтобы выжить, другие не знают. Те, которые знают, никому не говорят, а те, что не знают, стесняются спросить, и так вот и живут люди.
Нуца тяжело вздохнула. Ее потрескавшиеся от ветра губы опять было слезно вздрогнули, но она вовремя прикусила их и, низко опустив голову, прошептала:
- А я к вам, отец, пришла было с большой просьбой... - И, переборов неловкость, добавила: - Может, поговорите с моим мужем. С Мирчей.
Лицо Карабуша изобразило полное изумление - это было то, чего он никак не ожидал. Он подумал, что в самом деле давно зятя не видно было в деревне, а хорошему человеку трудно одному в поле.
- Что, побил?
Натруженные, мозолистые Нуцыны пальцы забегали по створкам старых дверей. Они метались слепо, на ощупь, точно отполированные долгим употреблением сосновые доски могли подсказать нужное слово. Когда-то давно, в юности, эта дверь помогала, она их там находила, нужные ей слова, но и то сказать, когда это было !
- Понимаете, какое дело... На днях мне сон приснился. Странный какой-то, даже не знаю, с чего начать. Будто дождь застал меня в лесу и лес был чужой, а я одна и заблудилась...
- А, ночью всякая ерунда может присниться, - сказал Онаке разочарованно. Но поскольку плохих снов он тоже побаивался, добавил: - Ну, лес, ну, дождь. Что же потом?
- Я его не смогу пересказать, но, поверьте, это был жуткий сон, и с тех пор все хожу и гадаю: что же мне еще предстоит пережить? Леса и дожди мне снятся не к добру.
- С чего ты взяла! Леса снятся перед началом окота овец, а дожди означают обновку, это тебе любой дурак скажет.
- Нет, отец, у меня свои сны, со своими приметами. И был тот сон страшный, я до сих пор не могу прийти в себя. Все хожу и гадаю: к чему бы это? Потом была у Мирчи, отнесла ему еду, чистое белье, посидела с ним. И, возвращаясь уже с поля, как-то подумала: нет, не жилец он на этом свете. Он надорвал себя там, на тракторе, и боюсь, что останусь я вдовой...
Онаке был искренне возмущен:
- Боже мой, что за глупости! Вы только послушайте, какие она глупости несет!
Нуцыны губы снова вздрогнули, и она прикусила их, но предчувствие большого горя перекосило ее лицо, и она, быстро отвернувшись, щелкнула дверной задвижкой, чтобы скорее уйти, не разреветься во второй раз. Но она была сильной, она сумела еще раз взять себя в руки. Постояв немного на пороге, сказала совершенно чужим голосом:
- Это не глупости, отец. Вы Мирчу давно не видели, а он у меня так и не отошел после голода. Трактор совсем доконал его. И есть он уже не может, все пересыхает у него во рту, и голос у него начал срываться, как у мальчишек, и похудел, как щепка, и потеет сидя, зазря, просто так.
Карабуш сидел растерянный, не зная, что сказать, а она стояла на пороге и ждала, ждала того единственного слова утешения, ради которого пришла и без которого ей и двери не открыть, и до дому, казалось, не добраться.
- Ну что ж, - вздохнул наконец Онаке. - Раз такое дело, то можно и поговорить. Но только, понимаешь ты... О чем мне с ним говорить, что мне ему сказать?
Нуца вдруг улыбнулась. Она унаследовала от Онакия тот знаменитый на всю Чутуру неожиданный переход от печали к шутке. Это всегда приходило в крайних случаях как спасение. Спасением было это и теперь. Улыбнувшись, она окончательно пришла в себя. Потом улыбка погасла, и только произнесенные ею слова несли еще на себе отблеск уже угасшей шутки.
- Эх, отец, если бы мне знать, что сказать мужику, который в цвете лет сохнет и гибнет зазря, если бы я это знала, думаете, прибежала бы к вам!
Она повернулась и вышла рывком, стремительно, а Онаке пока по-старчески поднялся со скамеечки, пока нашел, куда положить зеркальце и ножницы, пока выбрался на улицу, Нуцы уже не было. Ни вдоль дороги не видно было ее, ни напрямик, по садам, по тропинкам не слышны были ее шаги. Над селом висели усталые летние сумерки, и все стихло, засыпая. Онаке стоял, прислонившись к своей калитке, прислушивался к ночной тиши, и все чудилось ему, что Нуца опять разревелась, и придет домой вся в слезах, и ночью опять бог весть что приснится.