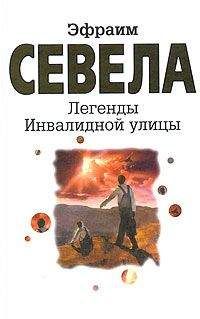Метель утихла. У крыльца стоял автомобиль — к великому удивленью моему – открытый. Улица пустынна. Луна светит на ненужно-ранние сугробы, мы садимся, точно едем на прогулку, концерт, в ресторан.
Забыть ли мне эту прогулку?
Автомобиль летел легко, звезды неслись над ним по небу, мы сидели рядом, рука в руку, несколько откинувшись назад. Андрюша и Маркел, Георгиевский, звезды и луна, Москва, те улицы, по каким носилась в молодости, все слилось теперь в одно, в то ощущение надземного и полуобморочного, когда переступаешь… Можно ли думать? Чем, о чем тут думать? Ты почти уже не человек. Ты помнишь сладостное ощущение прощанья и холодный, слабый бриз, ледком тянущий…
Быстро мы катили! Так казалось? Временами, всетаки, желанье: встретить своего, знакомого, махнуть.
Но Москва уходила. Поздно. Спят намученные. Кто махнет прощально?
На площади Георгий Александрович снял кольцо и положил в рот, за щеку. А чрез минуту, как к подъезду Оперы, подкатили мы к ярко-светящимся дверям.
— Прощайте, друг, Сенека.
Он поцеловал мне руку. Я его перекрестила.
XVI
Странное, но не самое страшное время мое — сиденье. В большой комнате с нарами, спящими женщинами, электричеством белым, первое, что ощутила: отдых. То, чем жила, и волновалась — вдруг захлопнулось. Ничего нет. «Контора Аванесова», прежде стучали тут на машинках, а теперь мы лежим, по деревянным скамьям: и учительницы, проститутки, и спекулянтки, просто бабы и дамы («шпионство для иностранцев») — все, проигравшие свои жизни. Разные разно себя ведут. Нюхают кокаин, рыдают, другие молятся, третьи бранятся. Каждый день привозят новых. По ночам уводят нам знакомых. Ночью стучат, громыхают моторы грузовиков. Фабрика в действии. Смерть — так домашня… Удивляться? Но чему? Все ясно.
В эти дни я не молилась. Была в отупении. Лежала, и дремала. Не слушала никого. Кончилось «действие» мое, борьба, наступленье. Удивительно: почти не могла думать об Андрюше. Ощущала его вместе, с собой. Мы — одно. Вот он тут, рядом, — и вечность за нами. Мы не разлучимы. Тут же Георгиевский — будто мы все заснули. А Маркел ужасно где-то далеко…
Первую посылку, сверток, получила, все же от Маркела: одеяло, сахар, кусок хлеба, и подушечка. Под наволочкой, на бумажке крошечной: «Господь храни». Все, кто на свободе, помните и знайте, что для узника пакетик с воли! Это главная радость тюремная, главная.
Бумажку ухом нащупала, ночью, лежа на подушечке, глядя, как клоп выполз из расселины, как проститутка выцарапывала на стене: «Пра-ща-юсь с жизнью ми-лай». Буквы Маркеловы я целовала нежно, а из-под ресниц слезы бежали — уж теперь неудержимо.
Эту ночь плохо спала. Но утро принесет и радость: когда камеру метут, несколько минут воздуха. Вереницею кружили мы по дворику, между стен пятиэтажных. И над нами — небо! Птица пролетела в нем однажды — галка! Милая, чудесная моя! А вечером, просясь в уборную, перебегая дворик этот наискось, в холодной, чуть морозной ночи дважды увидала я небо со звездами. Узор их золота над нашей бездной так пронзителен… И даже я увидела Кефея, даже Сердце Карла я узнала — в том кусочке черной сини, что над головой.
Допросы. Несколько их было. Это хуже. Тяжек, крестен путь по коридорам, глухой ночью, неизвестно, к палачу ли, следователю. Многое зачтется испытавшим это. Я попала к Кухову.
— Прошу вас, да, в кресло. Как же (улыбочка легкая) — приходилось встречаться.
Кухов был подкормлен, чисто выбрит. Но угри остались, и весь общий, неискоренимый вкус плебейства. В глазах, зеленеющих под электричеством, скользило что-то. Иногда руки потирал, холодноватые и влажные.
— А теперь к делу. Я потому выбрал вас, что многое знакомо, в прежней жизни. Пси-хо-логия… — он слегка чмокнул, точно проглотил устрицу.
На допросе стал еще прохладнее, играл в некоторое величие. Иногда запугивал, как полагается, но не грубил. Старался намекнуть загадочно, «изящно» на «возможные последствия».
— Вы знаете отлично, что ничем ведь я не занималась. Бросьте!
— Прошу не волноваться, разберемся.
«Когда перед Георгиевским ползал на коленках… Разве он это простит?»
— Мне известно и о вас, о сыне, и о муже. Мы все знаем.
— Слушайте, мой сын…
— Отлично-с, и великолепно, правильно все идет… Потрудитесь отвечать.
В конце первого допроса он вдруг закрыл глазки, пожмурился и улыбнулся.
— Ну, теперь кончено. Деловая часть.
Встал, подошел к двери в портьере, выглянул в коридор, плотнее притворил ее.
— Несколько слов… По-домашнему. А-ха-х-с, ну перемена. Кухов! Кто такое Кухов? Мразь, в Риме голодал и унижался. Господин Георгиевский, Наталья Николаевна, певица… та-ак вот могли переехать… как улитку, сопляка. Сопляк! Темная личность. А теперь вы все — вот, в кулачке здесь, в кулачке. Наша взяла! — вдруг крикнул. — Наша! Не смотрите с пьедесталов со своих, я добрый, я ведь только так… Мы ведь давно знакомы, и конечно, вы-то мне и не сделали ничего плохого. Нет, я не зверь. Я самый мягкий из всех следователей, сказать по правде, я бы вас и выпустил. Сразу — нельзя. Но — власть! Вы понимаете, я — власть!
Я понимала очень хорошо. Для неудачников, обойденных, ничтожеств…
— Что же касательно Георгиевского…
Но постучали в дверь, и он не досказал.
Следующий раз я была у него дня через три. Он суше выглядел, подобраннее и нервней.
— Знаком вам этот почерк?
Подал мне бумажку. На ней знакомой, твердою и аккуратною рукой написано: «Всегда о вас. Н.Н., прощайте. Вспомните Сенеку».
— Древности, и философии, Сенеки! Сыграл таки, старик, разыграл роль, как в театре. Подвала, видите ли, не желаем, и предупреждаем… Откуда у него кольцо с ядом, вы должны знать, вам и написано, нет, вы должны ответить…
Я перекрестилась.
— Царство небесное!
Знак креста дурно подействовал на Кухова.
— Мистики! Христиане! Погодите, доберемся до попов ваших…
Но я его не слушала. Неинтересен. А мне было и холодно, и так безмерно одиноко в ту минуту… Потерла лоб рукою, выпрямилась. Будто легче.
Что-ж, не подался. Галкино, смерть отца, ночь, луна. Черное пятнышко в кольце. Не сдался, мой византиец.
Должно быть, я имела очень отошедший вид… Кухов стал приставать. Я посмотрела на него холодно, отдаленно.
— Напрасно вы волнуетесь. Вы знали ведь Георгиевского. Он вас не уважал, Кухов. Что-ж удивительного, что был против? Всегда читал и ценил стоиков, давно предчувствовал и войну, и революцию, и гибель свою — и завел кольцо. Когда мы ехали сюда, он положил его в рот. Очевидно: чтоб не отобрали. А теперь вас раздражает, что не вы его прикончили.
— Ваше показание очень важно.
И Кухов стал подробно, обстоятельно записывать все о кольце.
Когда окончил, я спросила, глухо:
— слушайте, а что же сын?
Он сделал неопределенный, но развязный жест.
— Видимо, на свободе. Если не вчера, то нынче, завтра выпустят.
Он стал катать шарики, из бумаги, ловко, далеко стрелял ими в угол.
— Георгиевского мы, конечно… Он был в заговоре. А вы?
Вдруг быстро перекинул на меня глазки.
Начался опять допрос.
На этот раз была я как-то очень уж тиха, печальна. Мальчик на свободе! Бедные, и милые мои, Маркел Андрюша, как вы думаете обо мне теперь, как вам сейчас трудней, чем мне… А у меня странное чувство: никогда не выйду я отсюда. В первый раз за мою жизнь, пеструю и бурную, я ощутила, что уж не могу бороться за себя, кончилось мое «везенье», отступилась «яблонка цветущая», и «ветер» — покровители. Я отвечала просто, без сопротивленья. Если бы он оскорблял, вряд ли смогла бы защищаться. Но Кухов, почему-то, был довольно милостив. Лишь иногда, при взгляде на меня, некая судорога внутренняя пробегала по его лицу. Точно еще знал что-то — не хотел сказать. И ненавидел, и стыдился.
— Вы все такая-ж барыня, как были. Вы под-стать Георгиевскому.
Он потер руки.
— С барами и трудней всего, и всего слаще.
Я посмотрела равнодушно. Безразлично мне, сладко или горько френчу обращаться с «барами».
У себя в камере, на этот раз, я стала на колена, и молилась долго, истово, за ушедшего моего друга. Во сне стонали женщины. Проститутки, в прошлый раз писавшей на стене, уж не было. На ее месте старуха – колена к подбородку, руками охватила ноги. Растрепались ее космы. И в глазах увидела я то безумие тюрьмы и смерти, которое уж мне знакомо.
— Что молишься, всех пердавять, нечего молиться…
Она, однако же, ошиблась.
Через неделю, днем, в камеру вошли двое чекистов, и средь названных фамилий была и моя.
— С вещами, живо…
Через полчаса, свернув Маркелов плэдик, я шагала уже по Мясницкой, к Земляному валу. Мелкий бледный снег кружился с неба, одевал меня так бережно, так мягко застелил все мостовые, тротуары, оседал на проволоках и туманил купола. Я все дышала, не могла я надышаться. Была возбуждена, и не устала, но я чувствовала себя странно: точно вывихнулось что-то, мне не по себе, я не могу себя найти, не знаю, где я, что я. И под нервным оживленьем — сотрясающее беспокойство. Все будто бы и так. По улицам люди идут, везут салазки, на бульваре галки тяжело летают и орут. Но уж с Покровки не могла я совладать с собой: почти бежала.